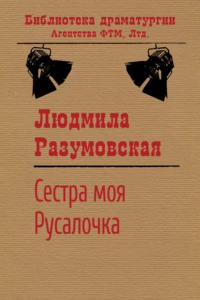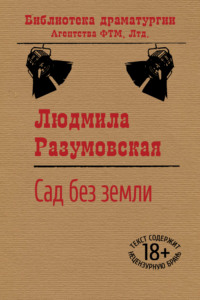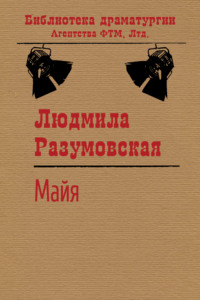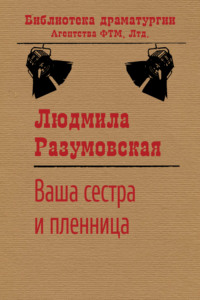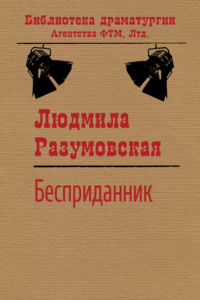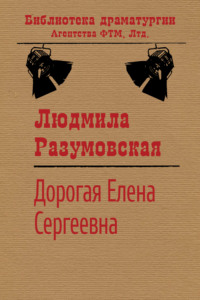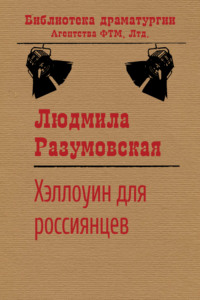Полная версия
Русский остаток
Почувствовав неуместность своего любопытства, Галина перестала расспрашивать, но бабушка все же завершила свой рассказ:
– Меня не тронули, оттого что мы не захотели зарегистрировать наш брак, вернее, опасались… И совершенно, как выяснилось, справедливо. Больше я уже не пыталась устраивать свою жизнь… Моей жизнью стала Сонечка. А потом вот они. – И бабушка с умилением посмотрела на внуков.
Софья Дмитриевна была не так разговорчива, как бабушка. Она молча ела разогретый Верочкой обед, ласково поглядывая на всех сидящих за столом, и глаза ее светились тихой и грустной нежностью, словно говорили: «Я вас всех очень люблю, и тебя, милая, незнакомая девочка, я тоже готова любить, потому что как же иначе жить?»
Потом все вместе пили чай. Бабушка завела древний патефон, и они слушали удивительные голоса старых исполнителей, столь непохожие на современных эстрадных артистов, как непохожа была вся их жизнь на нашу.
Галине хотелось плакать. Впервые в жизни ей было хорошо в семье, в этом теплом, милом, уютном доме, и она невольно вспоминала своих мать и бабку и не могла понять: отчего же они без конца ссорились и ругались, что делили? Что это, дурной характер или тяжелая жизнь доводили их до такой взаимной крайности? Но ведь жизнь Тамары Константиновны тоже, по всему, была не из легких…
Они вышли во двор. Южный вечер, похожий на ночь, обдал их теплым и таким сладким воздухом, что захотелось побольше набрать его в грудь. Без устали ритмично кричали цикады. Огромные лампады звезд висели совсем низко.
– Посидим? – спросила Галина, кивнув на скамейку.
– Посидим, – эхом отозвался Алексей.
– Господи, как хорошо! – невольно воскликнула она, прислушиваясь к шуму прибоя, доносившемуся с близкой набережной. – Ты, наверное, уже привык к этой красоте…
– Нет… то есть привыкнуть к этому нельзя… Я ее всегда чувствую…
Они сидели по разные стороны на деревянной резной скамейке и молча смотрели в небо, думая каждый о своем.
– Твоя работа? – спросила Галина, имея в виду резьбу по дереву.
Алексей кивнул.
– А где твой отец? – снова спросила его Галина.
– Он был летчик, разбился на самолете.
– Ты его помнишь?
– Нет…
– Но ведь тебе уже было, наверное, лет восемь… Твоей сестре ведь двенадцать?
– У нее другой отец… Он… с нами не живет.
Помолчали.
– Вот в этом домике моя мастерская. Хотите посмотреть?
– Хочу, – сказала Галина. – Только перестань, пожалуйста, говорить мне «вы», хорошо?
Алексей ничего не ответил. Он открыл дверь своего крошечного домика и включил свет.
Самый родной и волнующий из всех запахов на свете – запах красок – обрушился на нее, сбивая с ног памятью мелькнувшего и утраченного навсегда счастья. Все здесь напоминало ей прежнее, любимое, без чего жизнь утратила для нее всю свою силу и радость.
Она ходила от картины к картине молча, не вглядываясь и не оценивая изображаемое, только жадно вдыхая запах красок и стараясь унять дрожь, которая вдруг откуда-то изнутри стала выстукивать мелкой дробью от сердца до кончиков пальцев, заливая румянцем лицо. Она боялась произнести слово, чтобы в звуках ее голоса он не услышал постукивания ее зубов. Эта внутренняя ее дрожь передалась и ему. В маленьком пространстве комнаты они то и дело сталкивались, задевая друг друга то плечом, то рукой, пока взаимная лихорадка не сблизила и не соединила их губы.
«Господи, что же я делаю? – пронеслось у нее в голове. – Ведь это ребенок! И какая чудесная бабушка… и мама… Надо бежать!..»
Но уже было поздно рассуждать, оценивать и тем более бежать.
Вихрь его первого юношеского любовного жара и ее ностальгически чувственная жадность закружили им головы, и, как затаившийся в темноте разбойник, внезапно набросилась на них страсть и мгновенно смяла обоих.
Галина вернулась домой за полночь.
– Я уж думала, ты останешься у него ночевать! – язвительно набросилась на нее Татьяна.
Галина улыбалась не отвечая.
– У нас роман с юным греком?
– Почему греком? – рассмеялась Галина.
– Ну, феодосийцем, кафцем, неважно. Два художника для одной биографии, по-моему, это слишком, – резюмировала она. – Чай будешь?
– Спасибо, нет.
– Ну хоть расскажи, чем тебя угощали?
Галина, не раздеваясь, легла на кровать.
– Домашним вином. Домашними пирогами. Домашними фаршированными перцами, – с удовольствием перечисляла она.
– С ума сойти! С тобой, что ли, сходить? Или теперь меня уже не приглашают?
– Теперь уже нет.
– Третий лишний?
– Вот-вот.
– Ты что, серьезно с этим мальчиком?
– Почему бы и нет? Он очень милый…
– Ну смотри, не влюбись.
Галина, улыбаясь, пожала плечами.
– Ой, слушай! – перевела разговор Татьяна. – У меня тут такой джигит! – Она зажмурилась. – Умопомрачительный! Хочешь, расскажу? – И она стала красочно описывать свидание с джигитом.
Галина ее не слушала. Она думала о том, что завтра снова встретится со своим милым Алешей, который, кажется, совсем от нее без ума.
На следующий день он пришел с тремя белыми розами из их сада. И все оставшиеся дни ее отпуска они расставались лишь на несколько коротких ночных часов. Хотя мама и бабушка, конечно, о многом догадывались, но ей хотелось выдержать тон и соблюсти приличия, не демонстрируя открыто связь с Алексеем, которая в этом случае (кто знает?) могла быть воспринята с неудовольствием его родными.
Обычно они встречались утром на Карантине и отправлялись в пешее путешествие по феодосийским окрестностям. Они шли на запад, загород, к мысу Святого Ильи, к одиноко белевшему маяку и там часами сидели на бурых холмах, покрытых желтой иссохшей травой, фиолетовой лавандой и разлапистыми колючками с голубыми, похожими на васильки цветками.
Оба любили смотреть на море и подолгу молчать.
Иногда он вел ее через перевал невысоких гор, окружавших старинный, когда-то греческий, город (Феодосия – дар Богов) в Двуякорную бухту. Поднявшись вверх через полосы насаженного низкорослого соснового леса, пройдя сквозь заросли терновника и кизила, напившись студеной ключевой воды, они спускались на дикий каменистый пляж, где было очень трудно заходить в воду, зато там они были совершенно одни. За целый день если кто и попадался, то один-два человека.
А от Двуякорной бухты рукой подать до маленького военного (закрытого для обывателей) поселения Орджоникидзе, откуда открывался великолепный вид на могучий, коварный и величественный Карадаг – старый потухший вулкан.
Они гуляли по круглым разноуровневым холмам и оврагам, пересекаемым полосами низкорослых насаждений или голых троп, и открывавшийся с высоты перевала вид казался им марсианским.
Марсианские пейзажи она видела у Волошина, завороженного странной, диковатой красотой Восточного Крыма. Эти же пейзажи, еще более дикие и фантастические, рисовал и Алексей.
В Коктебель они ездили на автобусе. Впервые она увидела дом поэта еще не утонувшим, как впоследствии, в разросшихся вокруг него бездарных строениях новых санаториев и частных домов. Еще можно было бродить по не перегороженному берегу и представлять, как жили, чувствовали и что видели вокруг себя его прежние обитатели. (Марию Степановну им не удалось застать, она уехала на лечение в Киев.) Зато подымались на пологую гору к могиле Волошина, и еще Алексей показывал ей поразительной схожести каменный профиль поэта на последнем у моря утесе старого Карадага.
Татьяна, очень скоро разочаровавшаяся в джигите, деликатно не просилась в попутчицы и целыми днями в расслабленности валялась на пляже, время от времени лениво отмахиваясь от очередных нагловатых кавказцев и не менее назойливых русских.
Незадолго до ее отъезда они отправились на несколько дней с палаткой в горы. В те годы вездесущие толпы туристов еще свободно истаптывали древние каменные бока Карадага вдоль и поперек. Плескались в Голубой, Изумрудной и Лягушачьей бухтах, взбирались на Чертов палец, искали знаменитые коктебельские полудрагоценные камешки. Старый великан терпеливо сносил молодые игрища, но шутить не любил, и не раз зазевавшихся, незадачливых туристов ждал печальный конец; не все возвращались с Карадага.
Алексей знал Карадаг. Они поставили палатку у источника в Лягушачьей бухте и провели эти последние дни их совместной жизни, как влюбленные на необитаемом острове, – в раю.
Но этот неожиданный для Галины райский роман уже начинал ее тяготить. Конечно, он не мог ей не нравиться, но, Боже мой, каким он еще был младенцем по сравнению с ней, с ее горьким опытом взрослой женщины! Невольно она чувствовала себя старшей сестрой и даже матерью этого хорошего мальчика и, понимая всю бесперспективность их отношений, с облегчением думала о предстоящем отъезде. Но понимала она и другое: расставание с ней принесет ему страдание и боль, он уже привязался к ней с той доверчивой, искренней полнотой чувств, которая возникает с первой близостью у очень молодых и чистых людей.
В последний вечер, провожая ее до татарского домика, он подарил ей кольцо с большим коктебельским серо-голубым агатом.
– Вчера я сказал маме и бабушке, что мы поженимся, – произнес он.
– Ты с ума сошел! – невольно воскликнула Галина, но, увидев его растерянно-беспомощное лицо, улыбнулась: – Ты бы сначала у меня спросил, миленький…
– Я думал… – начал Алеша. – Я думал, раз ты со мной… раз мы…
– Алеша, – мягко сказала Галина и взяла его за руку. – Ты очень, очень хороший… и ты мне очень нравишься, но… как ты себе это представляешь?
– Мы поженимся, ты переведешься на заочное, и мы будем здесь жить все вместе. Ты же сама говорила, что хотела бы здесь жить…
– Нет, – покачала головой Галина, – это невозможно.
– Почему?
– Невозможно, – повторила Галина. – Давай больше не будем об этом.
– У тебя… кто-то есть? – спросил он ее после паузы, мучительно краснея.
– Нет, – сказала Галина. – Дело не в этом… Нет, милый, у меня никого нет, но… И потом, ну, подумай, я старше тебя на целых пять лет!
– На три, – сказал Алеша. – Разве это имеет значение?
– По-моему, да. Огромное. Ты еще не понимаешь…
– Значит, ты уедешь сейчас, и всё?.. А как же я? – спросил он тихо.
– Я приеду, – солгала она. – На следующий год. И буду приезжать, пока тебе не надоем и ты меня не бросишь, – закончила она с бодрой улыбкой.
Вид у него был убитый.
– Алеша, – тихо сказала Галина. – Ну хочешь, я останусь сегодня у тебя? Хочешь?..
На следующий день он провожал ее на поезд.
– Везет же вам, девушка, – сказала Татьяна, весело поглядывая на Алексея, несшего их сумки. – Хоть бы в меня какой-нибудь морячок влюбился, а то… – Она не договорила. – Эхма, жизнь малиновая, как говаривала одна симпатичная дамочка!
Они уже стояли на перроне. Вокруг сновали громкоголосые, перегруженные вещами и ящиками-корзинами с фруктами отъезжающие. Народ орал и толкался, кто-то под гитару пел, кто-то кого-то искал, кто-то плакал. Татьяна вежливо отошла в сторонку.
– Можно, я к тебе приеду в Ленинград? – спросил он, заранее зная ее ответ.
– Нет, нет, что ты? Зачем? – испуганно проговорила Галина. И добавила: – Я же в общежитии живу, там и ночевать негде… Ты уж немного потерпи, – сказала она, страдальчески морща лоб, вспоминая, как сама пыталась терпеть и что из этого вышло.
Поезд тронулся.
Алексей не шел за поездом, не улыбался и не махал руками изо всех сил, как остальные провожающие. Он стоял на перроне, не двигаясь и не глядя в сторону удаляющегося вагона, в котором уезжала от него Галина. Навсегда.
8
Жизнь ее вошла в привычную колею. Лекции, библиотека, занятия. Все было хорошо, она почти не вспоминала Алексея. Прошел месяц, ей вдруг показалось, что она беременна. Она сходила в женскую консультацию, ее подозрения подтвердились. Врачи ли ошиблись, чудо ли произошло, но Галина действительно оказалась на втором месяце. Ее спросили, будет ли она оставлять ребенка, и ошеломленная Галина ответила: конечно, да.
Она ответила так, не подумав, по первому движению сердца, но, и подумав, она еще больше утвердилась в своем желании иметь дитя. Больше она не хотела рисковать. Кто знает, сможет ли она забеременеть еще? Да и разве это имеет значение, кто отец? Есть он или нет? Это будет ее ребенок, только ее! Родное существо, которое разобьет ее одиночество.
Жизнь ее переменилась. Она еще больше замкнулась в себе, словно отгородилась невидимой стеной от окружающих, и целиком сосредоточилась на новой, растущей в ней жизни. Об ее тайне никто не знал.
В мечтаниях о сыне (не допускала и мысли, что это может быть девочка) она невольно соединила свою прошлую беременность с настоящей и, радостно вынашивая дитя, как бы исправляла свою прежнюю, казалось непоправимую, ошибку. Тот загубленный ею, нерожденный мальчик должен был воплотиться теперь в этом новом, мечтательно взлелеянном ею ребенке, и отцом этого ребенка мог быть только один человек на свете – Сергей.
Так она хотела, так она чувствовала, так, наконец, уверовала.
Алексей здесь был ни при чем.
Она уже почти забыла о нем, как вдруг пришло письмо из Феодосии.
«Милая Галина, – писала бабушка, – не удивляйтесь моему письму. Я бы не посмела Вас беспокоить, если бы не бедственное состояние моего внука, которое приводит нас в несвойственное нам отчаяние.
Увы, после Вашего отъезда Алексей заболел. Насколько я понимаю, это болезнь душевная (не стану описывать Вам ее проявления, они ужасны), и связана она с любовью к Вам.
Милая девочка, я не знаю, что у вас произошло (Алексей молчит как рыба), ведь он сказал нам, что вы решили пожениться, и, поверьте, с нашей стороны это не вызвало никаких возражений. Напротив. Несмотря на молодость Алексея и, мягко говоря, неопределенность его положения во всех смыслах, мы были бы рады принять Вас в нашу семью как дочь.
Я прожила долгую жизнь и знаю, детка, как опасно становиться поперек большой любви. А то, что Алеша любит Вас безгранично, у меня нет никаких сомнений. Скажу Вам по секрету: он никогда и ни в кого еще не влюблялся (уж у нас с ним нет никаких тайн) и вы первая девушка, которую он пригласил в наш дом.
Умоляю Вас, если Вы любите нашего Алешу, приезжайте. Вы видели, мы живем скромно, но это ведь не препятствие, не правда ли? Бог поможет, и все устроится наилучшим образом. Только бы были между вами любовь и согласие. А мы все, Софья Дмитриевна, Верочка и я, любим Вас и скучаем.
Крепко обнимаю Вас, деточка, и надеюсь – до скорой встречи.
Ваша бабушка Тамара Константиновна».
Это бесхитростное, прямое, дружеское письмо, продиктованное любовью, обожгло Галину. Она ни минуты не сомневалась в своем решении расстаться с Алексеем и все же соблазнительно погружалась в мечтания о возможности тихой, простой жизни в райском домике у самого синего моря среди роскошных роз, красивых картин и милых ее сердцу людей. Она представила себе восторг всей семьи при известии об ее будущем ребенке и не удержалась от радостной улыбки. Да, наверное, она могла бы быть счастлива… Но счастья не выходило (не ложилась карта), она не знала, почему… «муж мальчик, муж слуга, из жениных пажей» – кто-то умело подсовывал ей цитату, да, но и не только.
Разве могла она теперь покинуть Ленинград, этот ставший для нее бесценным, самый изящный, стройный и гармоничный город на свете с его молочными, белыми ночами, золотыми шпилями и безукоризненно стройными проспектами? Что ж из того, что он разрушался? Он и в умирании своем сохранял свое имперское достоинство, величие и красоту. А разве могла она обойтись без громады публичных библиотек, без любимых профессоров, без театра?.. Нет, райский уголок не получался. Он наскучил бы ей через несколько недель. Она уже вкусила сладкий плод от древа познания, и теперь ее путь был только один – вперед!
«Дорогая, уважаемая Тамара Константиновна, – писала Галина. – Ваше письмо заставило меня снова пережить мечты о близком, но невозможном для меня счастье. Встретившись с вами, я впервые почувствовала, что такое настоящая семья, где любить и заботиться друг о друге так же просто и естественно, как дышать. Я плакала от умиления, что такие отношения еще возможны, и конечно же мечтала бы о таком чуде и для себя.
Дорогая Тамара Константиновна, Вашего Алешу нельзя не любить, но, я думаю, Вы поймете меня, моя любовь к нему больше сестринская, как к младшему брату, или даже материнская… согласитесь, что это совсем не то чувство, которое должно быть между мужем и женой. Ведь я старше Алеши и, что тут таить, опытнее. Я уже многое пережила, многое испытала, и мне совестно портить жизнь такому чистому и хорошему мальчику (а он для меня мальчик).
Кроме того, моя научная работа связана с жизнью в большом городе – в Ленинграде. Вряд ли я смогу от нее отказаться. Я уже отравлена (называйте это как хотите: эмансипацией, свободой, творчеством) и никогда уже не смогу жить патриархальной жизнью, исполняя роль только жены и матери, как бы ни требовала и ни стремилась к этому моя душа.
Алеша еще так молод, он скоро забудет меня, Вы знаете, время лечит, и еще встретит свою настоящую любовь, чего я ему от души желаю.
Умоляю, не сердитесь и не держите на меня зла.
Я вас всех очень люблю и очень вам благодарна. И никогда вас не забуду.
Ваша Галина».
Отправив это письмо, Галина поставила жирную точку на всей этой романтической истории и начала жить заново.
Получила она письмо и от своей подруги. Татьяна писала, что после кратковременного романа с джигитом у нее образовалась внематочная беременность и теперь она готовилась к операции. «Слава Богу, что хоть успела родить, – подумала Галина и потрогала свой живот: – Ты как там, малыш? Все в порядке?» Малыш молчал, он был еще слишком мал, чтобы общаться с мамой.
В положенный срок Галина родила здорового мальчика (три сто) без осложнений.
Положение матери-одиночки ее не смущало, и отсутствие встречающего папаши с букетом цветов она перенесла спокойно.
Ее встречала все та же Татьяна, примчавшаяся по такому случаю из Мурманска, где преподавала в местном пединституте русскую, а заодно и зарубежную (по недостатку кадров) литературу. В подарок она привезла новенькую коляску, а также кучу всякого детского барахла, которое не успел сносить ее собственный сын.
Нашлись и другие добросердечные барышни из общежития, приготовившие для Галины с малышом все необходимые вещи на первый случай.
Галина была тронута, всех благодарила, но быстро выпроводила из комнаты и рассматривать младенца особо никому не позволила. Другое дело – Татьяна, та – своя да и сама – мамаша (хоть и кукушка, ее сын все еще находился у родителей), могла посоветовать, если что. Татьяна советовать любила. Она нашла, что младенец отличный и вылитый Алексей, а Галина – дура в том смысле, что отшила бабушку.
– С ним как хочешь, а ребенка могла бы каждый год отправлять в Крым! – такое было ее резюме.
Галина не спорила, дело сделано, чего уж, поздно.
Через пару дней Татьяна улетела просвещать поморских студенток, и Галина осталась совсем одна со своим новорожденным сокровищем.
По всему ее чувствованию выходило, что у ребенка два отца. Один – настоящий, реальный, другой – надуманный, фантастический, и оба – виртуальные. Она назвала мальчика Алексеем и в память о реальном отце, и потому, что ей просто нравилось это имя, а отчество записала «Сергеевич», потому как считала, что по справедливости (и судьбе) это должен был быть его ребенок.
Мальчик рос неспокойным, Галина почти не спала. Днем – кормления, магазин, поликлиника, пеленки. Уставала страшно. Матери не сразу написала о рождении сына. Но, получив от нее ответ с робкой просьбой: «Приезжайте с внучком, а то я к вам приеду, подмогну», – сухо ответила: «Сама справлюсь». Это «подмогну» испортило все дело. Видеть рядом с собой грубую («неинтеллигентную»), безграмотную мать, от которой давно отвыкла, – это уж слишком!
Боясь отупеть в этих бесконечных, изматывающих хлопотах по поддержанию физической жизни (на другое не оставалось ни времени, ни сил), она попробовала отдать Алексея в ясли. Но через два дня он заболел воспалением легких, и насмерть перепуганная Галина легла с ним в больницу. Больше таких экспериментов она не делала и после выздоровления сына взяла академический отпуск.
Из-за пережитых волнений у Галины пропало молоко. Ослабленный Алеша питался кефиром и детскими смесями. Здоровья они не прибавляли, усталость накапливалась, бывали и срывы, когда от переутомления нервы ее не выдерживали и она бессмысленно кричала на орущего младенца и малодушно жалела, что вообще произвела его на свет, в чем потом конечно же не раз каялась.
Ах, знала бы бабушка Тамара Константиновна о бедственной жизни своего правнука и несостоявшейся невестки – примчалась бы сама в этот холодный северный город и увезла бы их обоих в тепло, к солнышку, к морю, в благословенную крымскую благодать, на радость и счастье всей семье и прежде всего Алеше! Но она ничего не знала. Да и кто бы мог ей сказать? Татьяна? У нее не было таких полномочий. Каждый мучился в одиночку.
Самый тяжелый год, как казалось Галине, прошел. Уже резались вовсю зубки, уже крепко стоял и пробовал ходить на своих ножках ее мальчик и во весь рот улыбался, когда Галина заходила в комнату, и лепетал: «Ма-ма», отчего у Галины сразу начинало что-то сладко таять внутри. Но и второй год не стал легче. Ей все-таки пришлось отдать сына в ясли – не было выхода. Днем она сидела в библиотеке, но мысли ее были далеко, с Алешей, он по-прежнему часто болел. Стипендии не хватало. По ночам она мыла коридоры и лестницу в общежитии. Дорого ей давалось ее «я сама», но приходилось терпеть.
9
Галине было двадцать восемь лет, Алеше – два, когда она познакомилась с Юрой.
Она готовилась к сдаче кандидатского минимума по марксистско-ленинской философии. Этот ненужный никому, кроме партработников, предмет почему-то сдавали все студенты и аспиранты. Обложившись учебниками по марксизму-ленинизму, она сидела за столом в библиотеке и конспектировала не вмещающиеся в голове талмуды. На соседа, искоса на нее поглядывавшего, не обращала никакого внимания, торопилась до пяти вечера по диагонали перечитать кучу этой занудной макулатуры.
Взглянув на часы, она стала складывать книжки, вслед за ней деловито засобирался и сосед.
В гардеробе он ловко перехватил и галантно подал ей пальто и, помогая ей одеться, представился:
– Меня зовут Юра. А вас?
– Галина, – ответила она сухо, не глядя на него и не желая продолжать разговор.
– Вы позволите вас проводить?
Галина внимательно посмотрела в его серые улыбчивые глаза. Лицо было простодушное, доброе и, пожалуй, симпатичное, несмотря на чуть вздернутый нос и растрепанную шевелюру.
– Я должна зайти в ясли за сыном, а потом домой, в общежитие, – сказала она четко, чтобы у человека не было никаких иллюзий.
Похоже, это его не смутило. Он только уточнил на всякий случай:
– А муж?..
– Я не замужем, – перебила его Галина. – Мы расстались.
Вот теперь все было ясно. Юра повеселел.
– В таком случае вы позволите вместе с вами зайти за вашим сыном в ясли и проводить вас обоих домой в общежитие? – спросил он, нарочито подчеркивая, что усвоил все обстоятельства ее жизни и со всеми согласен.
– Нет, – сказала она. – Не нужно.
– Но… – начал он.
Но Галина уже оделась.
– Всего доброго, – сказала она и пошла к выходу.
– Подождите! – Он ринулся вслед за ней, застегивая на ходу куртку. – Подождите, – догнал он ее у выхода, открывая перед ней дверь. – Вы завтра придете?
– Не знаю, – сказала она. – Если ничего не случится. До свиданья.
– Я буду вас ждать! – крикнул вдогонку ей Юра, но она уже ушла не оборачиваясь.
На следующий день Юра с утра дежурил в библиотеке. Она не приходила. И на третий день тоже. Юра заволновался. Вдруг его осенило. Он вернулся в библиотечный зал, где выдавали учебники по марксизму-ленинизму и где они сидели рядом два дня назад, и подошел к дежурной библиотекарше.
– Мне нужно найти одного человека… он, то есть она, девушка, брала у вас позавчера книги по диамату… Вы не посмотрите ее карточку?
– Чью? – спросила молодая очкастая библиотекарша.
– Девушки, – покорно произнес Юра.
– Фамилия? – Очки смотрели строго и, казалось, недоброжелательно.
– Галина! – выпалил Юра и осекся.
– А фамилия? – еще раз ядовито спросила очкастая.
Он повернулся и вышел из зала, называя себя идиотом за то, что не спросил у нее фамилии и теперь все пропало.
На четвертый день она появилась. Осунувшаяся, бледная, с синими кругами под глазами.
– Вы заболели? – бросился к ней Юра у самых дверей, внизу, при входе.
– Нет, – ответила она. – Сын.
– Слава Богу! – облегченно вздохнул Юра. И на недоуменно вскинутые брови поспешно объяснил: – Да нет, что вы, я не в том смысле, что сын, я… просто испугался… что больше вас не увижу, вот. Понимаете?