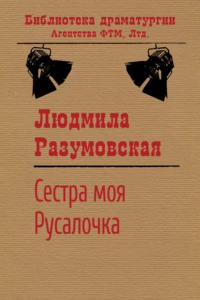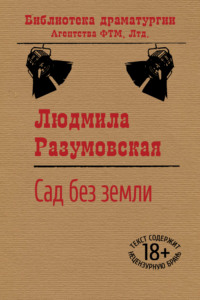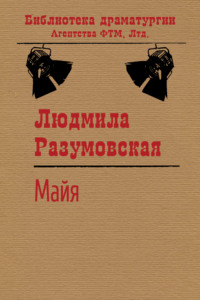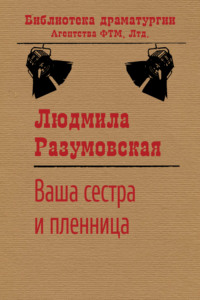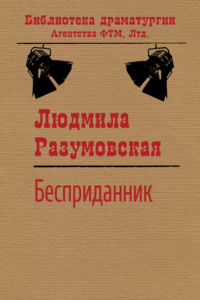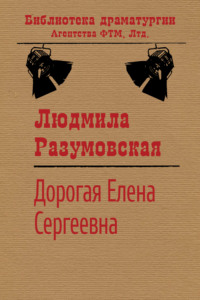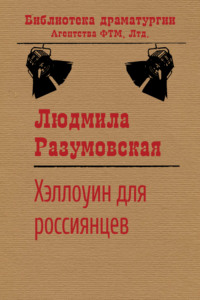Полная версия
Русский остаток
Все трое были напряжены и по любому поводу начинали болезненно хохотать.
Мясо тушилось. В ожидании фирменного блюда пили вино и кофе и, конечно, сплетничали.
Это выглядело как обсуждение гастролей ленинградского БДТ. Театр находился в зените славы, за билетами поклонники стояли ночами: Доронину обожали, Лебедевым восхищались, по Смоктуновскому сходили с ума. И каждая (каждый) чего бы ни дал, чтобы войти в эту прославленную труппу. Нинуша и Валюша объявили о намерении показаться Товстоногову. Обсуждали все за и против, давали советы, строили предположения, рассказывали случаи из жизни – одним словом, жизнь бурлила, страсти кипели, все были при деле и счастливы.
Галина не участвовала в разговоре, она ждала его прихода, ей было почти дурно.
Но вот – снова звонок.
Он?!
Вошел высокий, худощавый мужчина лет сорока с лицом, напоминавшим Данте или умирающего Блока. Короткая стрижка, узкое лицо, длинный нос, печальные карие глаза и удивительно мягкие, красивые губы. Одет он был в потертый хорошо сшитый костюм-тройку.
– Борис Борисоглебский, – представил его Женя. – Поэт.
– Кто ж Борю не знает, – сказал Петя, развязно подходя к гостю и вальяжно здороваясь с ним за руку. – Борю каждая собака в Москве знает.
Не обращая внимания на «собаку», поэт встал у стенки, заложив руки за спину, и своими темными, бархатными глазами стал неподвижно смотреть на Галину.
– Офелия… – прошептал он едва слышно.
– Нет, Боря, – ласково поправил его Женя. – Это Галá из Ленинграда.
– Я хочу прочесть вам стихи, – сказал Боря тихо, обращаясь к Галине.
– Валяй, – разрешил Женя. – Только не длинные. А то давеча тоже объявил стихи, а пришлось выслушивать аж целую поэму.
Не дожидаясь дальнейших комментариев, Боря стал читать тихим, глухим голосом что-то, Галине показалось, очень хорошее. Она пыталась сосредоточиться, но мысли ее были заняты другим. До ее рассеянного сознания долетали лишь отдельные обрывки строф, не складывавшихся в смысл, но очень красивых и странных. Борис читал долго, глядя уже не на Галину, а куда-то сквозь нее, в одному ему известные глубокие выси и далекие дали, вероятно, туда, откуда и диктовались ему эти строфы… Наконец он кончил.
– Молодец, старик, – одобрил его Петя, – растешь.
Похвала режиссера никак не отразилась на лице Борисоглебского. Он снова молча и печально уставился на Галину.
– А где вас можно прочесть? – поинтересовалась одна актриса.
– Да, где вы печатаетесь, Боря? – решила не отстать от подруги в культурно-познавательном плане другая.
Он посмотрел на них сверху вниз так, словно они спросили несусветную чушь.
– Я нигде не печатаюсь. – И глаза его горделиво блеснули. – Меня будут печатать после моей смерти.
С этим уверенно-скорбным утверждением трудно было спорить. Но Женя примирительно заявил:
– Ты преувеличиваешь, старичок. Времена меняются. Хочешь, я снесу твои вирши в «Юность»? У меня там приличные кореша.
– Я вас видел сегодня во сне, – трагически прошептал Борис Галине. – Вы шли в горах с тремя белыми розами…
– Я никогда не была в горах, – сказала Галина.
– У вас божественный тембр. Умоляю, скажите что-нибудь еще.
– Отстань от нее, Боря, – сказал Женя. – Девушка занята.
– Кем? – меланхолично произнес поэт.
– Кем-кем? Какая тебе разница? Мной.
– Ты не соперник, – резонно возразил Боря. – Будьте моей музой, Офелия…
– Ты, конечно, Боря, национальное достояние, никто не спорит. Но посмотрите на его… мм… костюм, Галá. Ты что, хочешь испортить девушке жизнь?
– Я не пью, – почему-то быстро сказал Боря.
– Никогда не говори «никогда», старичок.
«Неужели он пьет? – подумала Галина. – Как жаль».
Она взглянула на него с сочувствием, почему-то как к собрату по несчастью.
Но тут снова прозвенел звонок.
Он!
Вошел он. Красивый, уверенный, с веселым, искрящимся взглядом, как всегда.
«А, – промелькнуло у нее в голове, – это у него вообще, безотносительно меня, такой взгляд. Это он всегда так смотрит, на всех».
Собрав все свое мужество, она, как ей казалось, спокойно и просто поздоровалась с ним:
– Здравствуй, Сережа.
– Здравствуйте, Галá, – ответил он ей на «вы», и от этого выканья ее белая кожа с крошечными точечками веснушек стала розовой.
Он не ожидал, но и не смутился.
Он был не один. Вслед за ним вошла молодая женщина ошеломляющей красоты. Высокая, крупная, белокожая, с вихревым потоком слегка вьющихся золото-рыжих волос, синими глазами и яркими губами. Она была настолько ослепительно хороша, что даже юные актриски перестали на мгновение решать свои театральные кроссворды, а Петя просто и откровенно пожирал ее глазами сверху донизу.
«Господи, – думала Галина, – откуда же он ее привез? Из Сибири?»
– Познакомьтесь, это Александра, Саша, моя жена, – представил он Галине свою живописную красавицу.
Этот второй удар в ее жизни внешне она перенесла гораздо тверже, чем первый, когда бабка резанула ей про отца, но по последствиям он оказался страшнее: эта рана так никогда и не зажила в ее сердце.
Саша, или, как он ее еще называл, Саския, щедро улыбалась, показывая свои великолепные зубы, и чувствовала себя королевой. Она садилась к нему на колени, обвивая его шею руками, и глаза его так же искрились радостью, он улыбался ей так же нежно, как когда-то Галине.
Эта мизансцена ей что-то сильно напоминала. «Ах да, ну, конечно, Рембрандт, автопортрет с Саскией».
У Сержа был период увлечения великим голландцем.
Внутренне она умоляла Женю, чтобы он не оставлял ее одну, и, словно почувствовав ее мольбу, он не отходил от нее, оказывая всяческие знаки внимания. Это ее немного спасало.
Что касается Борисоглебского, он исчез так же внезапно, как и появился, пригласив на прощанье все общество на творческий вечер молодых московских поэтов в Дом культуры имени вездесущего Ильича, где Боря выступал в качестве самого старого и заслуженного из молодых и почти мэтра. Но внимание всего общества принадлежало уже не поэту, но новой «музе» «гениального» живописца Сержа. И слова Борисоглебского потонули в восхищенно-завистливых (смотря по тому, кто смотрел) взглядах и репликах честной компании.
«Боже мой, – думала Галина, – как права была Таня. Только представить себе ее здесь, в присутствии этой Саскии, с животом!.. Вот стыд! Нет, нет, все правильно. Никаких больше любовей и никаких детей!»
Когда гости ушли, она сказала Жене:
– Я сегодня останусь у тебя. Не возражаешь?
Он ошеломленно не возражал.
– Давай поженимся, – сказал он ей утром.
– Ты с ума сошел, – ответила она.
– Почему? Ты мне очень нравишься… Сразу понравилась, еще зимой.
– Я не люблю тебя, – сказала Галина сухо и стала одеваться.
– Ну извини, – оскорбленно сказал он.
– Ты тоже. Не обижайся. Счастливо. – Она уже стояла у дверей.
– Может, тебя, это, проводить?
– Не надо, Женя. Пока.
Она захлопнула за собой дверь, постояла немного на лестничной площадке и стала медленно спускаться с десятого этажа.
Ах цыганка, цыганка, и откуда ты все это знала!..
4
Прошел почти год. От Сергея не было ни слуху ни духу. Нет, она не жила монашкой. Время от времени появлялись ухажеры, она никого не отталкивала, но никто из них не только не сумел занять место ее возлюбленного, но даже приблизиться или посягнуть на него. Она равнодушно позволяла кому-то из ухажеров иногда с собой спать, но это не было еще поводом для знакомства, как впоследствии кто-то из новых молодых авторов сформулировал стиль таких отношений. Сердце ее оледенело.
Неожиданно зимой она получила от него телеграмму. В ней было всего шесть слов: «Очень хочу тебя видеть. Приезжай. Сергей».
Слова поплыли у нее перед глазами. Она отложила телеграмму, походила по комнате, желая успокоиться, и снова впилась в эти немыслимо сказочные для нее строчки, словно пытаясь проникнуть в их иной, зашифрованный, потаенный и истинный смысл.
«Очень хочу тебя видеть» – снова и снова перечитывала она. «Он хочет! Зачем? Зачем?» – пытала она его или себя. «Приезжай», – звал Сергей. «Нет! Никогда! Никогда больше не приеду к нему!»
«Никогда!» – сказала она себе твердо. Но ноги сами понесли ее на Московский вокзал.
Она не понимала, почему это делает. Она ничего не ждала от этой встречи, ни на что не надеялась. Она ехала потому, что просто не могла не ехать. Как не может не вдыхать свежий воздух арестант, просидевший год в подземелье.
Сердце ее разжалось, снова она ощутила неслыханную свободу, ей стало необыкновенно легко, радостно, звонко, словно свалилась гора с плеч и в душе снова зазвонили колокола! Она действительно не чуяла под собой ног, когда ехала-летела в поезде, а потом в метро, как это бывало всегда-всегда, когда она мчалась к нему на свидание.
– Я тебя ждал, – сказал он, помогая ей раздеться, и, еще холодную, с улицы (был март), прижал к себе.
– Подожди, – отстранилась она. – Дай я привыкну. А то у меня голова кружится.
Они вошли в комнату. Здесь ничего не изменилось. По-прежнему стояли холсты, подрамник с незаконченным женским портретом (тонкое лицо, длинная шея, на голове гирлянда цветов, что-то вроде «Флоры», ей было не до ревности, все равно!), пахло лучшими в мире «духами» – масляными красками и всем остальным, чем пахнет у художников в мастерских.
– Что ты рисуешь? – спросила она рассеянно, глядя на разбросанные всюду листки.
– Театральный заказ. «Волки и овцы».
– Любишь Островского?
– Почему бы и нет?
– Ты один?
– Как видишь.
– А где мама… жена?
– Мама в больнице, – сказал он спокойно. – А жена, с твоего позволения, уехала обратно.
– Надолго?
– Думаю, навсегда.
– Понятно.
Она снова походила по комнате.
– Кто это? – спросила она, кивнув на недописанную «Флору», просто чтобы что-то спросить.
Он подошел к ней, взял за плечи и развернул к себе. И, глядя ей прямо в глаза своими темными сияющими глазами, сказал:
– Неужели ты до сих пор так ничего и не поняла?
– Что… я должна понять? – спросила она, и две крупные слезы выкатились из ее глаз.
– У, какие соленые… – сказал он, улыбаясь и слизывая языком ее слезы.
– Что я должна понять? – переспросила она упрямо.
– Что ты – моя женщина, – произнес он раздельно и ясно. – Что бы ни случилось, ты всегда должна это знать. Моя единственная. Моя любимая. Просто – моя. Теперь понятно? – сказал он, улыбаясь.
Она, уткнувшись ему в грудь, разрыдалась.
– Ну что ты, глупенькая?.. – Он усадил ее на колени и, осушая слезы поцелуями, утешал и гладил, как маленькую девочку, по голове. – Перестань… Я люблю тебя… И не обращай внимания на разных маленьких московских шлюшек… Поняла?
– А разве ты не можешь?..
– Что?
– Без них? – спросила она, стесняясь.
Он ничего не ответил. Потом сказал:
– Потерпи немного. Хорошо?..
– Ладно, – сказала она, глубоко вздыхая. – Потерплю. Сколько смогу.
И они мирно и дружески поцеловались.
– Выпьешь чаю?
– Да. Только сначала в ванну.
– Мой халат на вешалке.
Она вышла из ванной в его стареньком махровом халате, и он сразу обнял ее и повел в комнату, где уже расстелил для них постель.
– Чай потом, – сказал он.
Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. И сразу же почувствовала то, что чувствовала всегда, оказываясь с ним рядом, – невероятный покой. Словно душа после многих мытарств очутилась наконец у себя дома, на своем месте…
Такой полноты счастья они еще не знали. Словно все, что испытывали они до этого дня, было только прелюдией, настройкой, подготовкой к слиянию их душ и тел, и они молча переживали только что произошедшее с ними чудо, иногда нежно и благодарно касаясь друг друга.
– Знаешь, – сказал он ей тихо, – я хочу уехать отсюда.
– Снова в Сибирь или на Дальний Восток? – безмятежно улыбалась она, рисуя пальцем на его плече какой-то замысловатый узор.
– Совсем уехать. Из страны.
Она приподнялась на локте и посмотрела ему в глаза.
– Ты шутишь?
– Нет, серьезно.
– Зачем?! – Она чувствовала, что снова летит в пропасть.
– Ну если это надо объяснять…
– Нет, не надо. Если тебе так нужно, поезжай, – сказала она, по-видимому, легко, но уже прощаясь навсегда с только что безмятежно мелькнувшим счастьем.
– Я знал, что ты меня поймешь.
– Но как же тебя выпустят? – еще цепляясь за неверную надежду, спросила она. – Это невозможно…
– Я сделаю фиктивный брак. С одной американкой.
Ее сердце снова сжалось в комочек, она застыла.
– Ну что ты, малыш! – Он пытался ее растормошить. – Что ты… Когда я как следует устроюсь там, я тебя вызову… Потерпи. – Он снова стал целовать ее похолодевшие плечи и руки.
– Нет, – сказала она устало. – Этого не будет никогда. Я не хочу ехать в Америку.
– Даже со мной?
– Я хочу спать, милый. Я очень устала.
Ночью она делала вид, что спит. Он не делал никакого вида. Он тихо и мирно спал. Иногда она смотрела на него, спящего, с грустной, прощальной лаской или просто лежала с закрытыми глазами, ни о чем не думая, легко, словно вбирала в себя и прижималась к его телу, касаясь губами того места на его теле, которое попадало в область ее губ.
Она заснула только под утро. А когда проснулась, он уже что-то рисовал.
– Не хотелось тебя будить. Ты так хорошо спала. – Он показал ей набросок, который только что сделал с нее, спящей. – Принести чай?
– Принеси.
Он молча пошел на кухню.
«Что же делать?» – думала она тоскливо и, конечно, не находила ответа.
Они выпили чай и снова легли в постель. На этот раз все было не так, как вчера. Она лежала с открытыми глазами и продолжала думать свою нескончаемую думу.
– Ты что, малыш, не хочешь? – спросил он.
Она не ответила. Потом, чтобы не обидеть его, сказала:
– Хочу. Конечно, хочу. – Она с нежностью стала тихонько целовать его лицо: глаза, брови, нос, губы, – словно прощаясь с ним навсегда, словно пытаясь запомнить его лицо, его тело, его запах на всю жизнь. И ее легкие, нежные ласки снова вызвали вчерашнюю бурю, и она не понимала, сколько же может продолжаться это вулканическое сотрясение и есть ли у него предел.
– Ты еще поживешь со мной? – спросил он, выразившись не совсем удачно, имея в виду, есть ли у нее еще свободное время, чтобы побыть подольше в Москве.
Но она вдруг оскорбилась: «Поживешь!.. Даже кошку или собаку берут на всю жизнь, а не „пожить“, а потом выбросить на помойку». И, посмотрев прямо в его темные глаза, сказала:
– Я бы хотела с тобой жить и умереть. А «пожить» – это из другой оперы.
– Как знаешь, – ответил он сухо, потому что тоже был горд.
Помолчали. И в этой молчаливой паузе вдруг выросло и встало между ними нечто маленькое, злое и враждебное им обоим, отчего сразу сделалось холодно и неуютно.
Это нехорошее облачко, появившееся невесть откуда, неожиданным и незваным недругом зависло над ними, и чем дольше оно висело, тем отчужденнее они становились друг другу.
– Когда ты уезжаешь? – спросила она.
– Не знаю, думаю, осенью.
– Значит, больше не увидимся?
– Это зависит от тебя.
– Если бы это зависело от меня, ты бы никуда не уезжал.
– Это упрек?
Она промолчала.
– Я тебе, кажется, уже писал, что не переношу упреков и никогда не позволю любимой женщине этой пошлости.
«Любимой женщине ты будешь позволять все», – подумала Галина и сказала:
– Ты меня проводишь? В последний раз…
– Когда ты уезжаешь, сегодня?
Она хотела уехать завтра, но в его «сегодня» ей послышалось его нетерпение поскорей от нее отделаться, и она сказала:
– Да.
Она ушла в ванную и, включив на всю мощь воду, громко, не опасаясь, что он услышит, рыдала, а потом долго приводила себя в порядок, чтобы он не заметил такой «пошлости», как ее слезы.
«Все к лучшему, – думала она в поезде. – Пусть уезжает. Иначе это никогда не кончится. Иначе не освободиться от него. Пусть едет в Америку, на Северный полюс, на край света. Пускай женится на американках, еврейках, негритянках». У нее, Галины, своя жизнь, своя судьба, свой суженый, как сказала цыганка, которая, снова и снова убеждалась Галина, была тысячу раз права!
5
Генерал КГБ Евдокимов Александр Степанович нервничал. На днях ему доложили, что его старший сын от первого брака Сергей Александрович Евдокимов готовится выехать из страны. Хотя формально («этот чертов сын») даже имел на это право («развели, понимаешь, либерализм!»), поскольку женился («дур-рак!») на какой-то иностранке («авантюристке!»). Этот факт мог быть использован врагами Евдокимова против него. А врагов было много. Враги были всегда. Они только меняли обличье.
Этот первый «преступный» брак («по молодости, по глупости!»), принесший ему столько неприятностей в жизни, ему великодушно простили. Он и не пытался впоследствии его скрывать, прекрасно понимая, что каждый человек, которым интересуется система, просвечивается со всех сторон, как на рентгене. «Преступность» заключалась в том, что его первая жена оказалась в войну под немцами. Этого было достаточно, чтобы испортить его начинающуюся карьеру, и Евдокимов предпочел не рисковать.
После развода жену арестовали, а обоих сыновей сдали в детдом. Правда, ненадолго. Через пару лет жену выпустили из лагеря по причине начавшейся у нее душевной болезни, и Александр Степанович через третьих лиц помог ей соединиться с детьми и даже выхлопотал для них комнатенку в Москве, что свидетельствовало все же о его мягком сердце и любви к брошенной семье.
Спустя некоторое время он вторично и очень удачно женился на дочери своего начальника, чернобровой и краснощекой хохлушке Оксане, которая родила ему последовательно двух дочерей: Веру и Любу.
Тесть стал гарантом как его продвижения по службе, так и всего их семейного счастья. Чины и награды, как и полагалось, следовали бесперебойно, а вместе с чинами и все, что им сопутствовало: квартира, дача, машина, спецраспределители. «Жизнь удалась», – усмехался Александр Степанович. Он охранял родину от врагов и считал эти блага заслуженными.
Жена, отличная хозяйка и мать, с ровным, веселым характером его не раздражала. Она никогда не лезла в его дела, не докучала глупыми вопросами и не пыталась проявлять самостоятельность или женскую власть. Она целиком и полностью подчинялась мужу; он это ценил. В семье ему было покойно; он отдыхал «в своей крепости» душой и телом. Дочери тоже вышли удачные; одна краше другой. Правда, обе были без ума от театра и собирались («дуры») в артистки, но этого, заявил он дочерям, пока он жив, не будет никогда.
Насколько вторая семья была во всех отношениях удачной, настолько первая представляла для Александра Степановича сплошную головную боль. К чести сказать, он и в дальнейшем не выпускал из виду свою хрупкую, болезненную Анну Капитоновну, кроме жизни в оккупации, имевшую еще одну непростительную вину перед советской властью – непролетарское происхождение. (Ее отец-нэпман держал в Москве несколько булочных-кондитерских и был в свое время органами заслуженно расстрелян за спрятанное на черный день золотишко.) И когда начались грандиозные застройки новых районов Москвы, Александр Степанович помог бывшей жене с детьми получить отдельную квартиру. Все это, разумеется, он делал втайне от Анны Капитоновны и тем более от Оксаны Григорьевны, благодаря надежным, структурным связям.
С Анной Капитоновной, Анечкой, он познакомился в маленьком белорусском городке, куда Анечкина мать после расстрела своего супруга-нэпмана вынуждена была бежать к родственникам. Жили тихо, помня о своей социальной чуждости. Мать Ани, в свою очередь, была дочерью мелкого царского чиновника, давно уже умершего, и прекрасно отдавала себе отчет в том, что по неписаным, но строго исполняемым советским законам они с дочерью вовсе не должны были бы жить и дышать. А уж если им это милостиво позволила советская власть, то, по крайней мере, дышать как можно реже, чтобы не отнимать воздуха у социально благонадежных граждан, у которых, кстати, также, кроме воздуха, мало что было.
Все же Аня сумела окончить семь классов. Учиться дальше она не могла, мать болела, надо было зарабатывать на жизнь. Ее взяли в столовую посудомойкой, где ей приходилось мыть не только горы грязных тарелок, но и огромные котлы и чаны, в которых варилась еда и мылась посуда. Она изнемогала. Бросить работу – нечего было и думать. Мать жалела Аню и каждый день плакала об ее тяжелой жизни, но что она, медленно тлеющая в чахотке, могла сделать?
Началась война. Немцы очень скоро заняли город. Выхода было два: умереть или идти в партизаны.
В партизаны они не пошли и стали готовиться к смерти. Время от времени немцы устраивали облавы; евреев расстреливали сразу, молодых и крепких славян угоняли в Германию на работу.
И хотя Анечка была по виду заморыш, они все равно боялись, что их разлучат и тогда уж они наверняка точно погибнут.
Так они прожили под немцами два года, питаясь иногда лебедой и картофельными очистками. Однажды в доме, где они ютились Христа ради у родственников, поселился немецкий чин, потребовавший, чтобы Аня убирала его комнаты и мыла полы. За это они получали кой-какие продукты. Никто не думал тогда, что это будет расценено вернувшейся советской властью как добровольное сотрудничество с немцами. Маленькая Аня и ее мама просто хотели жить. Между тем государство требовало от своих граждан другого: уменья умирать. На трудовом фронте, на поле боя, в тылу врага.
После освобождения от немцев в городе открылся временный военный госпиталь, и Аню взяли на кухню, но уже не посудомойкой, а раздатчицей пищи. Впервые за последние годы Аня сытно поела и немного поправилась. Она оставалась такой же худенькой и хрупкой, но щечки ее чуть округлились и порозовели, появились и робкие признаки пола.
Вскоре в госпитале появился молоденький, красивый лейтенант. У него были прострелены обе руки, и сострадательная Аня частенько его кормила. Лейтенанту очень понравилась черноволосая хрупкая девушка с глазами газели и крошечной темной родинкой на щеке. Завязался невинный роман. После выздоровления лейтенанта они расписались. Теперь мать Ани могла спокойно умирать – у ее дочери был муж и защитник. Через три дня после регистрации брака лейтенант вернулся на фронт, а через девять месяцев у них родился сынок Сережа.
После войны Саша Евдокимов вернулся к семье. Мать Ани к тому времени умерла, Аня с маленьким сыном на руках дожидалась мужа. Их встреча, как и все послевоенные победные встречи, была душераздирающе счастливой. Второй их сын родился в начале сорок шестого.
Неожиданно Саше Евдокимову предложили вступить в партию и перейти на работу в органы. Анкета у него была почти безупречна. Безупречность ее нарушали разве что четыре Георгиевских креста, полученные его отцом в Первую мировую войну, но распропагандированный товарищами из центра георгиевский кавалер, прапорщик Степан Евдокимов, вовремя повернул свой штык на буржуев. Дезертировав с фронта, он все же сумел правильно потом погибнуть, перейдя на сторону революционной Красной армии, и Саша получил путевку в новую жизнь как сын героя Гражданской войны, застреленного белогвардейцами.
Александр Евдокимов вполне сознавал доверие, оказанное ему советской властью, и готов был служить ей верой и правдой, не щадя, как и на войне, своей молодой жизни. Но существовало одно «но» – сотрудничество его жены с немцами. Он не стал доказывать явную абсурдность этого обвинения, товарищам из органов было виднее. И хотя мытье полов не вполне вписывалось в категорию добровольной помощи немцам, однако по доносу соседей на Анечку было заведено уголовное дело. Да и как же иначе? Ведь добровольных помощников у Гитлера в общей сложности было до семисот тысяч человек советских граждан (в составе одной только армии Паулюса под Сталинградом их оказалось около пятидесяти двух тысяч!). А всего на службе у немцев, включая полицейские, охранные и боевые части, находилось по разным подсчетам от полутора до двух миллионов человек. Эту огромную массу «пособников и предателей» нужно было после окончания войны органам переварить, рассортировать и каждому наложить соответствующее вине наказание.
Саша Евдокимов покаялся за свою легкомысленную жену, и порадовавшиеся за него товарищи предложили ему развестись. Не нужно думать, что Саше это было легко. Он любил свою милую, кроткую Анюту, любил малышей, но… родина снова позвала его, Сашу Евдокимова, на защиту. А для этого ей, родине, была нужна его чистая биография, потому что только чистым советским людям могла быть доверена эта великая миссия – очищать страну от явных и скрытых, видимых и невидимых и даже потенциальных врагов. И он сказал ей:
– Аня, я тебя люблю. И я никогда вас не брошу. Буду помогать вам всю жизнь, клянусь! Но, пойми, я вступаю в партию и перехожу на важную секретную работу, а ты жила под немцами, понимаешь? Мы должны развестись.