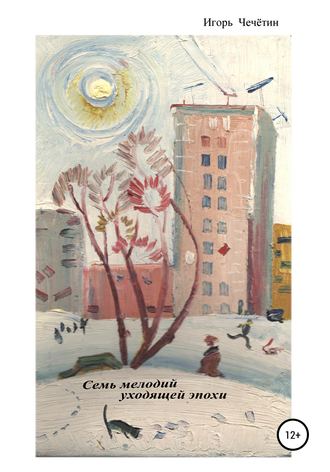 полная версия
полная версияСемь мелодий уходящей эпохи
– Товарищ космонавт, разрешите, пожалуйста, мне у вас взять два автографа на добрую память, для меня и моего друга! – Я протянул ему ручку и две квадратные бумажки.
– Два? С удовольствием, тем более, я никогда еще не писал автографы на ступенях туалета и на туалетной бумаге.
Космонавт Попович взял у меня ручку и бумажки сомнительного свойства.
– Это бумага не туалетная, это бумага оберточная с пищевого комбината.
– Знаешь, старина, это в корне меняет дело. А почему сейчас, почему ты не подождал до завтра, когда я всем буду автографы давать?
– Очень захотелось быть первым, – произнес я не задумываясь.
– Понимаю!
Космонавт Попович зачем-то бросил взгляд на небо, после чего протянул мне листочки с драгоценным росчерком.
Дальше я ничего не помню. Помню, что мы вместе дошли до калитки в палисадник и еще о чем-то говорили. Помню, что он пожал мне руку на прощание, и как только за ним захлопнулась дверь веранды, рядом со мной возник запыхавшийся от быстрого бега Великанов с большим блокнотом для рисования…
Вот, пожалуй, и все. Следующий день был интересный, это была встреча пионеров пионерского лагеря «Дружба» с космонавтом Павлом Романовичем Поповичем. Встреча прошла хорошо. В длинную очередь за автографом я вставать не стал, на отрядном фото я получился с самого края – почти у речки. Из рассказов космонавта я запомнил только то, что он любит число 13 и в полете он поддерживал температуру внутри корабля – 13 градусов по Цельсию.
Вот и все…
Назавтра приехал отец и забрал меня домой за две недели до окончания смены.
Дорога нам предстояла неблизкая, и это здорово, мне столько хочется рассказать папе!
Бассейн «Москва»
Совсем давно, когда в стране не было слова гламур, а следовательно и не было гламурных журналов, и модных клубов тоже не было, и в центре столицы рядом с главной площадью страны не было громоздкого храма, крестами задевающего низкие осенние облака, именно на месте этого бетонного исполина жил своей шумной жизнью большой открытый бассейн «Москва». Бассейн обслуживал простых москвичей, которые, отстояв очередь в кассе, обретали нехитрую забаву: 45 минут плескаться в подогретом растворе из хлорки на фоне кремлевских звезд.
При бассейне был автономный, отгороженный от основной чаши, шестой спортивный сектор, разделенный на дорожки. На трех левых дорожках шумно, кучно и брызгливо тренировались дети из спортивной школы, по центру молча и одиноко плавали специальные взрослые люди с особыми гребными свойствами – состоявшиеся спортсмены несуетно и сосредоточено оттачивали свое мастерство. И, наконец, правые две дорожки и большой, прилегающий к сифону для прохода в душевую и раздевалку водный клин делили разнополые люди невнятного свойства.
В их числе бывал и я, имеющий законное право как член семьи члена ВТО (Всесоюзного Театрального Общества) плескать свое тело в водах специального закрытого спортивного сектора. Возможно, в одной воде со мной плавали «деписы» и «жописы» – дети и жены советских писателей, как члены семьи членов СП (Союза писателей), возможно и сами писатели, но инженера человеческих душ трудно отличить от его персонажей, если он практически голый, без вечного пера, пишущей машинки и мятых черновиков. Еще там часто плавали глухонемые подростки. В воде они не отличались от детей членов творческих союзов, потому что гребли в воде органами речи, а вот в душевой они многих раздражали. Они очень любили бесконечно долго стоять в душевых отсеках друг против друга и громко махать руками. Понятно, что им для удобства коммутации нужно было пространство и комфортное расстояние, только многих советских людей с негативным мышлением это раздражало: «Опять немые разорались!»
И, конечно, генеральным местом шестого сектора была сауна – полутемное и убогое по нынешним меркам помещение метров на двадцать, выборочно покрытое белым больничным кафелем грязно желтого цвета. Вдоль одной стены стояли широкие древесные полки – вполне лагерная конструкция из трех высоких ступеней и кустарная печка-жаровня с камнями в левом дальнем углу.
Если дети из спортивной школы царствовали в раздевалке после сеанса, путаясь в штанинах, роняя на мокрый пол яблоки, пряча приятельские трусы и весело хлопая дверями железных шкафчиков, в помывочной прописались глухонемые, настоящие спортсмены с жабрами на третьей и четвертой «воде» – так следует говорить гидро-профессионалу, то сауна была любимой кайфовальней советских актеров. «Инспектор Томин» (Каневский), «Билет, а при нем вопрос» (Павлов) – потеть рядом с ними в той сауне мне приходилось часто. Много было и сугубо театральных персон, которых я не знал в силу своей непроходимой бездуховности (сын критика – антитеатрал) и физиономического кретинизма (я совершенно не запоминаю лиц и имен за редким исключением).
Париться с актерами было непродуктивно, но очень весело. Все говорили исключительно громко, выразительно, артикуляционно, часто интонацией, неожиданной мастерской паузой, нервным или царственным взмахом простыни-туники добиваясь высокого художественного значения в любом бытовом физическом действии. Мат всенепременно приветствовался в беседе, но мат советских актеров был уместен, художествен, оправдан жанром и согревал даже меня.
Если на камни печи плескали только воду, без пива, эвкалипта или другого народного фермента, воздух в помещении очень быстро наполнялся пронзительно-кислыми молекулами сводного ночного перегара. Когда сивушная спираль набирала опасную плотность и угрожала катарсисом, открывали дверь в предбанник для поступления «воздуха надежды».
Во время проветривания актеры театра и кино отправлялись в воду. Редко кто из них плавал. Если кто и пытался тряхнуть удалью, то скорее тонул, чем плыл, агонистично шлепая ладонями по водной хляби – возраст, лишний вес, излишества всякие. Актеры все больше беседовали у стенки на мелководье, погрузившись в воду по шею, тесня коллективным перегаром из шестого сектора юношеский дух здоровой соревновательности и стремления к рекордам. Хорошо, если ветер дул с юга, воздух над бассейном заменялся волшебным ароматом горячего шоколада и корицы с кондитерской фабрики «Красный Октябрь», стоявшей через речку. Актеры блаженно закрывали глаза и многие громко вспоминали детство…
«Иных уж нет», а те, кто остались сегодня, возможно, так же блаженно и с большой мерой грусти и тепла, прикрыв глаза, вспоминают тот незатейливый банно-прачечный VIP времен излета социализма, канувший в Лету в самом начале очередной эпохи перемен.
Аграрный этюд
Сколь изначально гостеприимен русский человек, выносящий хлеб-соль на полотенце дорогому гостю, столь непредсказуем он в дальнейшем развитии застолья. Имея наклонность стремительно усвинячиваться в хлам, он уже через час способен яростно трясти физическую оболочку дорогого гостя, формулируя вопросы, не предполагающие ответов, способных умиротворить его воспаленное мироощущение.
Много лет назад, еще когда родимое пятно на голове генсека Горбачева старательно ретушировали тассовские фоторедакторы, поехал я командиром студенческого отряда в глубокое замкадье, аж за город Волоколамск в Лотошинский район на уборку картофельных клубней. Сводный отряд культпросветучилища поселили в здании старой школы, стоящей словно лепрозорий посредине чистого поля на приличном удалении от жилой деревни. Обустройство быта для трудового десанта из столицы продолжалось и в день нашего заезда. Какой-то хмурый человек неторопливо и обреченно забивал досками разбитые окна, потом долго гремел ржавыми металлическими листами, тщетно пытаясь соорудить единый водосток под висящими у входа унылыми чугунными рукомойниками. Умываться на улице холодной водой в сентябре – это замечательно, но меня как командира и лицо ответственное больше интересовал вопрос отопления барака.
Впрочем, все оказалось проще, чем я думал. К зданию примыкала котельная, из которой горячая вода поступала в систему из двух труб, воткнутых в здание, по которым горвода попадала в батареи.
Все это мне объяснил слесарь Палыч, человек идеальной квадратной формы, который, закончив инсталляцию какой-то «гребаной муфты», старательно протирал льняной паклей свои немаленькие пролетарские руки. Я не очень понял, почему парня двадцати лет, пусть и очень тяжелого, зовут Палыч, в остальном меня все устраивало. Палыч сказал, чтобы мы не стеснялись, если что с водой не так, и сразу звали его. Идти ему недолго, он живет в этой деревне, вон в том доме с огромной антенной на крыше. Отведя глаза в сторону, Палыч сказал, как бы немного извинительно, что он и сегодня вечером придет.
– Что-то еще не работает? – спросил я его.
– Нет, все работает… пока. Бить вас вечером приду.
Я подумал, что ослышался, и попросил повторить. Оказалось, что не ослышался. Палыч сейчас придет домой и хряпнет у бабули самогона, потом еще хряпнет. Телевизор у него не показывает – холм за деревней мешает, поэтому он придет к нам, у нас весело, девок молодых и красивых много. Когда много девок и весело, пьяный Палыч обязательно кого-нибудь должен избить.
Палыч попрощался до вечера и устремился неторопливо в свою обитель, а я стал думать о том, как просчитался мой папа-шестидесятник, расширяя мне образы Платона Каратаева и Григория Добросклонова своими непридуманными рассказами о незатейливых и благородных народных людях, с коими случилось ему удачно разойтись на личной бытийной тропе.
Разговор по телефону с местным милицейским начальником меня немного успокоил. Местный Анискин сказал, что Палыч днем совершенно не страшен, а совсем наоборот – исчадие добродетели, всем норовит помочь, услужить. Вечером совсем другое дело, опасен, но, главное его не провоцировать. Не провоцировать, по словам шерифа, означало, что разговаривать с ним нужно без широкой улыбки, но и не хмуро. В глаза смотреть недолго, и ничего у него не спрашивать. Можно увлечь его рассказом про любовь с примерами из личного опыта или историями из жизни в странах капитализма.
– К моему племяннику подход особый нужен, – сказал он мне на прощание не без назидательной гордости и пообещал вечером заехать.
– Что, что он сказал?
Комиссаром моего отряда был хрупкий преподаватель фортепиано лет сорока со спорной русской фамилией. Он на генетическом уровне боялся погромов и даже в музыке старался избегать громких звуков. Фамилию его я уже не помню совсем, но что боялся он наступающего вечера много больше моего, это чистая правда.
– Он сказал, что Палыч его племяш, и бить нас после заката они будут вместе.
Третий член нашего педагогического ядра был дамой. Зрелую и уважаемую женщину, имевшую взрослого сына моего возраста, я не стал оповещать о возможном скором знакомстве с недокументированными чертами характера советского сельского труженика. На следующий день я отправил ее в секретную командировку в Москву – домой до окончания срока. Много позже я узнал, что она настоящая племянница писателя Пришвина или Паустовского, я же взял и насильно оторвал ее от корней и истоков, воспетых дядей. Впрочем, я уверен, что она на меня не в обиде.
Смеркалось (да простит меня читатель за штамп), времени до прихода противоречивого селянина оставалось совсем ничего, и я начал действовать. Построив сводный отряд, я объявил сборщицам клубней, что ситуация в лагере складывается чрезвычайная. Местное население вымерло или деградировало настолько, что вечерние смычки города и деревни в виде совместного хорового пения на поляне, фольклорных прыжков через костер парами, плетения амурных венков из полевых трав при свете луны и танцев голышом на болоте отменяются мною до возвращения в лоно цивилизации. После ужина все колонисты обязаны находиться внутри здания, все вечерние перемещения по внешней территории должны быть согласованы лично со мной. Нарушение распорядка чревато неотвратимыми последствиями. Произнеся все это, я облегченно выдохнул, удивившись тому, что произведенное мною усекновение прав и свобод группы лиц не образовало внутри моей демократической сути ни малейшего гуманитарного протеста, даже наоборот.
Девушки нервно хихикали, все пять юношей с театрального отделения принялись играть желваками, немедленно пытаясь добиться схожести с декабристом Пестелем, комиссар-пианист довольно тер ладони, секретная в тот год племянница писателя Пришвина или Паустовского ходила по длинному школьному коридору с отвлеченно-потерянным выражением лица, старательно кутаясь в теплый шарф, который по размеру слабо отличался от двуспального английского пледа.
Опустив много подробностей, скажу одно – чрезвычайный режим, который я ввел в лагере в первый день, и меры, которые я принимал в другие дни, себя оправдали и уже совсем скоро не вызывали протеста у студентов. Палыч вечерний был не единственной нашей проблемой. В область на время осенней уборки из других регионов были прикомандированы водители грузовиков со своей техникой. В первые дни с наступлением темноты пространство вокруг школы наполнялось гулом моторов и резким светом автомобильных фар. Шоферы страстно желали развлечений. Иногда я думал, что разделю участь поэта-дипломата Грибоедова, закрывая собой дверной проем здания.
А слесарь Палыч в первый вечер не пришел. Потом он приходил часто, но обученные мной первокурсники театрального отделения вполне умело забалтывали его, и, ломая телом кусты, он уходил домой, обещая прийти завтра и устроить, наконец, городским настоящий блицкриг.
Всякая тирания лишь тогда чего-нибудь стоит, когда посредине жестокого правления устраивает для своего народа праздник, дабы миряне громким пением, ритмичными телодвижениями под звуки музыкальных инструментов, созерцанием нехитрых зрелищ, участием в подвижных забавах избавлялись от накопившегося озлобления, наполняя свободное место неожиданной порцией любви и уважения к своему управителю.
Завтра за нами придут автобусы, а сегодня вечером у нас дембельский праздник. Я предложил «созерцание нехитрых зрелищ», например, меня бы очень устроила спокойная развивающая игра в города на семьдесят человек, но радостные студенты решили устроить конкурс привидений под названием «Глюк 86».
Заглянувший днем Палыч опять было завел старую песню, что любит нас уже как родных, но просто обязан вечером устроить напоследок кровопролитие. Узнав, что у нас в плане не танцы, а конкурс привидений, он неожиданно разволновался. Оказалось, что он давно мечтает показать на большой публике очень страшное привидение, которое называется «человек повешался». Нарушить свои правила и впустить в школу после заката самого страшного аборигена района… Может быть, это и разумно, может быть вовлеченность в общее действо и его трезвое состояние помогут нам пережить и этот вечер?
После позднего прощального ужина, когда все ушли готовиться к ночному шабашу в мое окно постучали. Под окном стоял Палыч. Мы долго, стараясь не производить шума, затаскивали в мою комнату через окно нечеловеческих размеров деревянную стремянку. Самогонный креатив слесаря заключался в том, что он должен был висеть в проеме этой царь-стремянки с большой веревочной петлей на шее и покачиваться при этом, изображая безнадежно мертвого человека. Под курткой у Палыча была специально изготовленная страховочная сбруя скрытого ношения, которая и должна была удерживать его в воздухе. Палыч показал мне, как он закроет глаза, высунет набок язык. Я сказал ему, что это самое страшное, что я видел в жизни до этого вечера. Еще я спросил его, отчего у него оттопырены карманы. Оказалось, что в карманах у него лежат флаконы с лосьоном «Розовая вода» – как же на трезвую такой номер показывать? Мы договорились, что когда все пройдут в столовую, я проведу его со стремянкой в боковой коридор, и там его никто не будет видеть до нужного момента, но он должен быть наготове. На том и порешили. Через час, когда все собрались в столовой, я вывел его в боковой коридор. Палыч был уже пьяный от двух флаконов розового лосьона, но вполне мне вменял.
Прощальный вечер удался. Я насмотрелся много разных привидений, показал свое, спел со всеми под гитару и посредине глубокой ночи ушел спать в свою комнату, впервые не сделав вечерний отбой: дембель, святое дело. Мы продержались месяц в этом сарае между бескрайним полем и полумертвой деревней, все живы и здоровы, мне не в чем себя упрекнуть…
Страшный женский вопль подбросил меня на кровати. Рядом с моей дверью. Еще вопль и дружный топот ног. Сегодня, как и весь месяц, я спал в одежде, поэтому вылетел из комнаты в следующее мгновение. Первокурсница, обнаружившая инсталляцию с мертвым Палычем в боковом коридоре, билась в истерике. Она долго не хотела верить, что Палыч жив. Впрочем, Палыч был жив весьма условно. Он с вечера терпеливо ждал своего триумфа, потягивая лосьон – третья бутылка валялась под стремянкой – и в итоге уснул в образе с петлей на шее. Невидимая страховочная сбруя горбом вздыбила ему телогрейку, отчего и без того квадратный великан уже совсем напоминал парижского горбуна – зрелище только для подготовленных. Мой косяк – про Палыча никто не знал кроме меня, а я от усталости успешно забыл про сюрприз деревенского затейника.
Девушка пришла в себя. Парни впятером с большим трудом сняли Палыча с конструкции и уложили трезветь и досыпать на физкультурных матах в коридоре. Он спал долго, спал он и тогда, когда автобусы, груженные студентами, взяли курс на Москву. Возможно, ему снилось, что он великий кулачный боец, может быть, он придумывал во сне новый смертельный аттракцион. Я даже допускаю, что проспал он в школьном коридоре на физкультурных матах до следующей осени, чтобы в нужный час выйти навстречу новому трудовому десанту из столицы и застращать всех по новой без специальной злобы до состояния хронической нервической комы.
Как я поплыл
В пять лет я впервые увидел море, и оно неожиданно приняло меня. До этого папа несколько дней пытался научить меня плавать, держать голову, бить по воде ногами, грести руками и дышать ртом. Дня через три мы устали к взаимному удовольствию, и я просто самостоятельно гулял по морю вертикально, смело удаляясь от берега по самые сиськи.
Очень хорошо помню, как решил я вдруг удивить своих родителей лихим мужским поступком, погрузившись в воду с головой. Под водой я поплыл сразу, как головастик, словно вернулся в родную среду. У меня не было в тот год маски, никто не планировал, что я буду плавать анонимно во внутренней толще Керченского пролива, а потому мир под водой я видел в общих чертах. Оно и замечательно, так как я обретал раздолье для фантазии и нового гуманитарного откровения. Конечно, мне не стать космонавтом, но кто мешает мне парить в моем новом уютном мире, где я надежно укрыт от неудобного бытия, где из звуков только тарахтенье дизеля от ближайшей фелюги и тугие удары моего маленького сердца в голове под резиновой шапочкой. Папа был доволен моими неожиданными успехами, а я с радостью изображал утопленника, медленно опускаясь на песчаное дно пузом, драматично раскинув руки…
В июне 1985 года, все было решительно наоборот, я уже почти утопленник старался из последних сил изображать живого человека. Я отдыхал с женой и маленькой дочерью в литовском городе Зарасае. Отдых на здешних озерах был весьма популярен среди москвичей и питерцев. Озера большие с чистейшей водой. Закончив шумное купание с дочерью, я сдал ее для просушки жене и вернулся в воду для обычного самостоятельного заплыва. Радуясь ясному и теплому дню, думая о высоком и вечном, я развернулся для возвращения на берег и в тот же момент получил порцию воды в лицо.
Резкий неожиданный ветер с порывами мгновенно поднимает высокую бессистемную зыбь на озерах, она и ударила мне неожиданно в лицо. Вода попала и в нос, и в горло очень глубоко, обжигая пазухи, я начал кашлять, мгновенно теряя силы. Мои ноги и руки сделались ватными, и я понял, что ситуация приближается к критической. До берега метров четыреста, да за мной никто и не смотрит неотрывно. Крик мой никто на берегу не услышит с такого расстояния, тем более против ветра, при том, что и кричать я не могу – кашель, слизь изо рта и носа и слезы – все, что мне осталось напоследок из ощущений. Жена знает, что плаваю я хорошо и пропадаю в воде надолго.
Мама, жена, дочь, животный страх и безразмерная обида. Хрип, кашель, паника и пульс за сто сорок, последнее трепыхание на поверхности и обрывки моей недолгой жизни. Школа, армия, покойная бабушка, отец учит меня плавать, я не плыву, а просто бью руками по воде, снова я, решивший всех удивить, ныряющий с головой под воду…
Какой же я дурак, что я делаю на поверхности, тратя драгоценные остатки сил! Нужно взять ртом воздух, сколько можно, и уходить с поверхности. Уходить туда, где я всегда был свободен.
Три раза я возвращался за воздухом, но уже после первого погружения у меня пропала паника. Я кашлял и кашлял под водой, уже не думая про свинцовые руки и ноги. Тонуть я уже не собирался. Обратно я плыву не спеша. Восстановив дыхание, я чередую брас с большими проплывами под водой. Ухожу под воду и снова выныриваю, жмурясь от яркого солнца, вновь радуясь теплому ясному дню, в который ступил сегодня дважды.
Это я из самолета звоню
Самолет отделился от полосы и под крепким углом стал уносить меня с чужбины в сторону исторической родины, в места моего компактного проживания, в страну с болезненно противоречивым прошлым, с сумеречным настоящим и тревожным до желудочных колик будущим.
Лайнер, остервенело разрывая своим телом плотный облачный фронт, становился ракетой, когда его крылья пропадали в сером однородном киселе.
Поскольку самолет, на котором я летел, носит имя академика Вавилова, я увлекся было размышлениями о возможном влиянии примет и символов в гражданской авиации на настроение, физическое состояние пассажира-авиафоба, на положительный исход полета, наконец. Что лучше – лететь на лайнере имени русского композитора Мусоргского, умершего в расцвете лет от алкоголизма, или на борту имени замученного сталинским режимом академика – я решить не успел, так как в салоне по громкой связи зазвучал восторженный и даже где-то эротический голос пилота, сообщивший пассажирам о чуде-чудесном, которое с нами сегодня приключилось. Оказалось, что все пассажиры умопомрачительные везунчики, так как этот новейший самолет Аэрофлота дает нам всем возможность разговаривать по телефону и выходить в интернет сразу после набора высоты в четыре с половиной километра.
– Здорово, если что, то ты звонишь дочери, а я родителям.
Мне казалось, что жене не нужно объяснять, что я имел в виду, но посмотрев на ее нордическое лицо, я понял, что ошибся:
– Это на всякий случай, если что…
«Если что» не наступало, принесенная стюардессой «курица-рыба?» съедены, самолет летел ровно, лиловые предзакатные облака за бортом являли глазу художника удивительные картины, и я занялся принуждением себя к получению удовольствия от путешествия по воздуху.
Я летел над моей маленькой планетой и думал о научно-техническом прогрессе в целом и его роли в жизни отдельного человека. Потом я думал о роли отдельного человека в истории, потом о влиянии отдельного писателя на современный литературный поток, потом мне стало хорошо, я прислонил голову к иллюминатору, закрыл глаза в сладостной дремоте, возможно, пустил возрастную послеобеденную слюнку…
На землю меня вернул мужской голос за спиной. Наши кресла были последние в салоне, за нами – стенки туалетов и проход между ними. В проходе стоял мужчина, который пытался разговаривать по телефону. Думаю, что это был его первый опыт общения по телефону с высоты десяти километров. Неожиданно оказалось, что информационная эффективность наноразговора по телефону может быть равна нулю, ну или совсем близка к этому. На слух это выглядело примерно так:
– Привет, это я. Я из самолета звоню тебе, прикинь… Нет, не надо сейчас приезжать в аэропорт… Из самолета звоню тебе… Нет, мы взлетели… Нет, мы взлетели… Почему же опять сели… Я звоню тебе из самолета… Из самолета, а не из аэропорта… Нет, мы не прилетели еще… Нет, не прилетели… Звоню из самолета… Что значит, когда вылетим? Вылетели… Не у самолета, а в самолете… Я в са-мо-ле-те!
Мужчина нервничая решил ключевую фразу произнести по слогам.
– Да, звоню из самолета.
Уже добрая половина нашего салона с улыбками поглядывала в сторону туалетов. Мужчина пытался говорить негромко, но отчетливо. Он, несомненно, меньше всего предполагал стать объектом повышенного внимания пассажиров.
– Самолет уже летит, и я в самолете… Причем тут другой самолет! Я в этом самолете лечу… Звоню тебе из самолета с высоты… Да ничего не случилось, летим нормально…
Мужчина, обласканный добрыми взглядами пассажиров, поспешил в свое кресло, а я с улыбкой подумал о том, что меньше всего ожидал обрести забавный сюжет в вечернем небе над заснеженной Польшей.
Вобла
Состоявшимся и совершенно счастливым человеком среди мальчишек нашего двора мог, несомненно, называться человек близкий к нам по возрасту, имеющий у себя дома мешок воблы.

