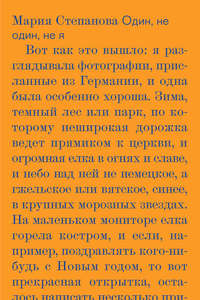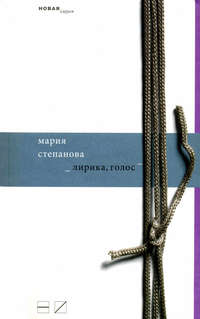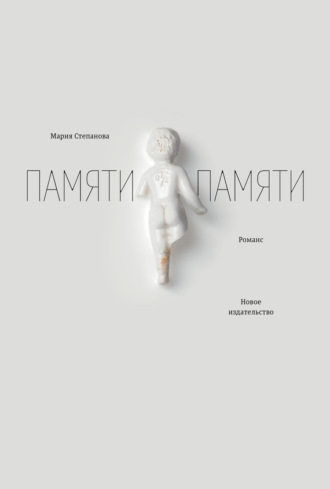
Полная версия
Памяти памяти. Романс
«Мир есть общая могила священная, на всяком бо месте прах отец и братий наших», говорится в православном заупокойном каноне. Поскольку земля одна (и мы у нее одни), местом встречи живых и мертвых, которой традиционно оказывается кладбище, может стать любой клочок земли под нашими ногами. И все-таки кладбище работает на нас: у него даже слишком много функций. В восемнадцатом веке венецианские монастыри были оборудованы специальными приемными – залами, где люди здешнего, светского мира музицировали, играли в домино, болтали между собой и пили кофе, попутно навещая родственников, от этого мира ушедших. Монахи и послушники, отделенные (чуть не написала «от живых») решеткой, сидели там, поддерживая разговор, а потом уходили в свою, другую, жизнь. Такой зоной одностороннего разговора – комнатой свиданий, монастырских или лагерных, всегда фрагментарных и неполных, – кладбище стало в последние двести-триста лет. Но есть у него и другое дело, и оно куда древнее этого: кладбище – место письма, территория письменного свидетельства.
В этой адресной книге человечества все необходимое изложено довольно-таки конспективно и сводится в основном к именам и датам, больше и не нужно: мы все равно прочитаем две-три знакомых фамилии, некому держать в уме весь ее тысячестраничный объем. Если предположить, что тем, кто там лежит, есть хоть какое-нибудь дело до нашей памяти о них, им остается надеяться на случайное чтение – на прохожего-остановись, на человека, который неизвестно почему выделил из ряда надгробий вот это, и стоит, читает, полный старинного любопытства к тому, что было до него. Эта вера в спасающее зрение чужого человека – в его глаза, перемещающиеся по каменным строчкам, от буквы к букве насыщая их временной жизнью, теплом телеологической цепочки, – делает такими сиротскими безымянные могилы, камни со стершимися чертами, те, что некому прочитать. Казалось бы, надгробие вещь почти избыточная: оно что-то вроде дорожного знака (прохожий, здесь лежит человек), все главное не на нем, а под, и свои своих узнают. Но почему-то краткая справка о том, как звали того, кто под, и сколько ему было лет, необходима: почему и зачем – другой вопрос.
И это очень старинная потребность, она старше христианства с его верой в общее воскресение. В книге, шаг за шагом сопоставляющей два неожиданных корпуса текстов (Целана и Симонида Кеосского), Энн Карсон утверждает, что именно над могилой – где только и есть, что чужая смерть, камень и потребность в поясняющей надписи, – поэзия вылупляется из звуковой оболочки и начинается как письменное искусство, рассчитанное на того, кто смотрит и видит, на его способность сделать то, что вырезано на камне, частью своей памяти, ее внутреннего порядка. Эпитафия становится первым жанром письменной поэзии, предметом своеобразного контракта между живыми и мертвыми – пакта об обоюдном спасении. Живые предоставляют мертвым место в собственной памяти и верят, что, говоря словами поэта, наши мертвые нас не оставят в беде.
Поэт, какой угодно, здесь совершенно необходим: он выполняет работу спасения, делая чью-то жизнь портативной – отделяя знак от тела, память от места, где это тело лежит. Единожды прочтенная, эпитафия разом становится летучей: транспортным средством, открепительным талоном, который предоставляет мертвым новую, словесную природу и неограниченные возможности передвижения по внутренним и внешним пространствам памяти, по антологиям мировой лирики и коридорам наших умов. Но что им наши антологии?
«Ответственность живых перед мертвыми сложно устроена, – пишет Карсон. – Это мы отпускаем их в смерть, потому что не уходим вместе с ними. Это мы удерживаем их здесь – отказываем им в небытии, – называя их по именам. Следствием этих двух несправедливостей (wrongs) становится написание эпитафий». В этой точке понимаешь, что поэзия как послание, письмо, рассчитанное на предъявителя, начинается с сюжета, который так мучительно меня волнует. Именно так: с попытки устранения несправедливости, заключенной в самой идее отбора, разделения человеческой популяции на особи, на две категории – интересное и неинтересное, годное для рассказа и годящееся только для небытия.
В греческом мире память, как залетейские души на запах крови, шла к тому, что можно было счесть примером, образцом для подражания. В книге Карсон с тревожной наглядностью показывается, как с появлением в пятом веке до Р. Х. денег – универсального способа обмена всего на все – валюта исключительного начала сосуществовать с другой, уравнявшей в правах с героями всех, кто готов заплатить за долгую память звонкой монетой. Симонид, родоначальник жанра, был известен еще и тем, что первым сделал поэтическое письмо коммерческим – проще говоря, брал за свои эпитафии деньги, – так что в посмертное хранилище на равных правах входили защитники Афин, заслужившие свой билет ценой гибели, и девушка как-ее-там, чья-то дочь и сестра, ничем больше в своей тихой жизни не отличившаяся.
Карсон описывает это как экономику равенства, не делающую разницы между важным и неважным; можно назвать ее и экономикой нового неравенства – для тех, кто не в состоянии оплатить свою эпитафию, разницы никакой. Обеим схемам находится место в широком русле общей несправедливости – той самой, вечной, сводящейся к тому, что нас слишком много и помянуть-поименовать каждого невозможно.
«Поэт есть тот, кто спасает мертвых». Но не всегда, не всех: на всех не хватит места или слов, и вот приходится выбирать, чем именно руководствоваться – избирательной логикой жалости, случая, сердечной склонности или безличным принципом навлона, платы, которую брал Харон при транспортной переброске в небытие. Поэт, выходит, получает свои драхмы за возможность выписать обратный билет; а несправедливость поджидает на берегу и его, и пассажиров.
Кладбище с его непритязательным набором имен и дат ведет себя честней; в своих территориальных пределах оно не выбирает и старается помнить всех. Видимо, именно поэтому оно вынесено на окраины наших городов, на периферию зрения и сознания, словно объем прожитого другими, как и количество этих других – больше, чем можно удержать в уме. Перемещенные лица человеческой истории, списанные со всех счетов и лишенные права на все, кроме надписи, таблички, редких цветочков по праздникам, мертвые, как волнующееся море, окружают нашу повседневность. Иногда их становится видней, чем обычно. В эти редкие минуты действительность как бы сдвигается, становится слоистой и, пока моя нестойкая лодка ползет по поверхности черной воды, из нижней тьмы проступают лица, и каждое из них еще можно различить, разглядеть, выручить – поместить в световое пятно сосредоточенного внимания.
Но как выбирать и кого выбрать. В пространстве между очевидной необходимостью, не рассуждая, спасать всех – и такой же очевидной, соприродной человеку, подневольной до хруста в костях потребности выбрать из любого множества то самое, единственное, нету места для правильного решения. Эта зона кромешной неправоты, насыщенная своим и чужим страданием, искаженная общим бессилием, прорезана сейчас вольтовой дугой, сплавляющей прошлое и настоящее до полного выгорания обоих. Любой текст, любая речь, исходящая из ситуации невозможного выбора, вспыхивает и горит, не давая ответа на собственные вопросы. Не выбирать и называть имена, подряд, пока не кончатся страницы? Ограничиться тем, что (теми, кто) ближе? Найти и вытягивать из ткани времени, как цветную нитку, то, что соответствует одному, невнятно сформулированному, критерию? Закрыть глаза и рухнуть назад – спиной вперед, словно тебя подхватят родные, заждавшиеся тебя руки?
* * *В Государственном архиве Российской Федерации есть пропускной отдел, брешь в стене, за которой сидит сторожевая дама, выдающая читателю билетик, талон на временное место в толще былого. На рабочем столе у нее тяжкая, диковатая в своей бронетанковой несовременности машина для постановки печатей, сделанная в тридцатых и бодро работающая до сих пор. Чтобы привести ее в движение, требуется нешуточное физическое усилие: надо прокрутить железный ворот вокруг оси, как поворотный круг, и тогда печать с чмокающим звуком ляжет на бумагу. Пока ждала, я не могла отвести глаз от того, что было на стенке слева. Кто-то приклеил туда журнальную картинку с изображением цветка, раззявившего нежное нутро; и вот к самой его сердцевине железной кнопкой была прибита вырезанная из бумаги бабочка.
С непривычки я долго не могла справиться с понятным местным жителям обиходом, простым порядком, регулировавшим оборот архивных бумаг и сопутствующей им документации. В большой зале со светлыми, от пола до потолка, стеклами тесно сидели люди, стоял тихий шелест поискового движения по страницам. То, что мне было нужно, было рассеяно по различным фондам с инвентарными номерами и мало что говорящими названиями; но вот постепенно, как спина немаленькой рыбы из глубины озера, стал проступать контур возможного запроса. Заурядные фамилии моей родни, все эти Гинзбурги, Степановы и Гуревичи, делали работу еще длинней – и, как нафталиновые шарики с антресолей, на меня сыпались затвердевшие от времени комки информации, никак не относившейся к семейной истории, но обозначавшей дверцы, своего рода peepholes, за которыми продолжала ворочаться чужая, непроницаемая жизнь.
Было там, например, донесение по службе, написанное в 1891 году и касавшееся какого-то другого, не нашего Гуревича, дослужившегося, несмотря на свое еврейство, до известных чинов, ставшего начальником тюрьмы – Одесского тюремного замка. На юге России, особенно в Одессе с ее до поры до времени великолепным презрением к тонким перегородкам национального, такое было возможно. Совсем близко, в губернском Херсоне, строил свой первый завод его однофамилец, мой прапрадед. Но у этого, чужого Гуревича что-то там не заладилось, и вот сто двадцать лет спустя я, со строчки на строчку, следила за историей его падения.
Донесение было адресовано Михаилу Николаевичу Галкину-Враскому, начальнику недавно учрежденного Главного тюремного управления.
В истекшем году Ваше Высокопревосходительство, посетив Одессу, изволили обозреть местный тюремный замок и, оставшись довольны найденным в оном порядком, признали справедливым ходатайствовать о поощрении должностных лиц, под надзором которых состоит тюрьма, – за их усердную службу и особые труды. Ввиду этого в числе других был также удостоен награды начальник тюремного замка надворный советник Гуревич, которому Высочайше пожалован и 28 декабря 1890 года вручен орден Св. Анны 2 степени. К сожалению, несколько недавно происшедших в тюрьме случаев выявили безусловное несоответствие Гуревича занимаемой должности, требующей прежде всего быстрой сообразительности, решительности и неослабной бдительности. Наличность этих качеств особенно необходима для Начальника Одесского тюремного замка, где постоянно сосредотачивается значительное количество преступников каторжного разряда, влияющих при отсутствии должного надзора самым разлагающим образом на прочих арестантов, которые, обращаясь в послушное орудие первых, способствуют противодействию тюремным порядкам. К устранению этого явления Гуревичем не принимается никаких мер и, как ныне обнаружено, он нередко помещал в одной камере важных преступников вместе с неважными, вследствие чего последние оказываются в короткое время деморализованными и трудно подчиняются требованиям тюремной дисциплины. Мало того, наблюдением за деятельностью Гуревича установлено, что он позволяет себе часто делать уступки и послабления самым важным преступникам, как бы в угоду им, с целью задабривания. Крайне слабохарактерный и трусливый по природе, хитрый и пугливый Гуревич не в состоянии не только сам проявить власть, но лишает также смелости и ближайших своих помощников и надзирателей, – в трудном деле обуздания арестантского своеволия – необходимой энергии. Поэтому малейшее замешательство в тюремной жизни возводится в происшествие, а какой-либо случай – в серьезные беспорядки.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.