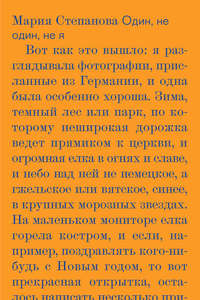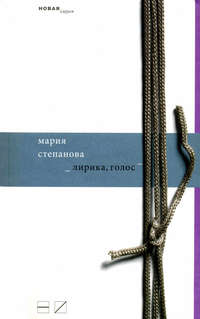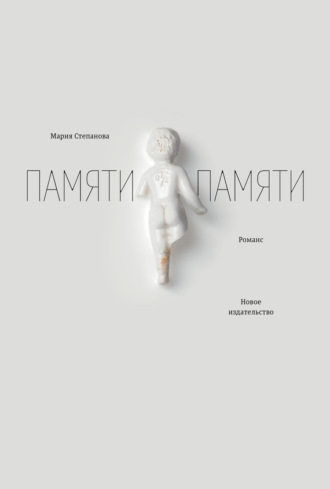
Полная версия
Памяти памяти. Романс
Казалось бы, чтобы стать культурным слоем (и приподнять уровень общего Рима еще хоть на метр вверх), вещи и практики нашей жизни должны омертветь, расточиться, пережить распад, как все, исходящее от человека. Странное дело: с появлением фотосъемки со звукозаписью с ними сталось то же, что произошло сегодня с самим мусором. Он больше не умеет разлагаться – и поэтому накапливается, не желающий стать землей, напрочь бесполезный для будущего. То, что не умеет изменяться, бесплодно – то есть, кажется, обречено.
В гостиных начала двадцатого века все еще модным было держать разного рода и размера чучела – от оленьих-кабаньих голов по стенам до маленьких птичек, со всей деликатностью набитых опилками так, что эти создания в своем пернатом опереньи выглядели живыми и куда менее суетливыми, чем во времена порханья и щебета. Литература сохранила анекдоты о пожилых дамах, последовательно обращавших в чучела поколения умерших собак и кошек, пока дома с каминными экранами и тяжелыми портьерами не шли с молотка вместе с дюжиной пыльных терьеров. Были и другие, более радикальные, способы консервации тех, кто тебе дорог: на вилле Габриэле д’Аннунцио до сих показывают меморабилию, сделанную из панциря его любимой черепахи. Раскормленная до исполинских размеров, она, говорят, еле ползала по комнатам и дорожкам имения с победным названием «Vittoriale degli Italiani», пока не умерла от обжорства, – и тогда нажитое ею тело выскоблили из роговой оправы, и та стала блюдом, изящной черепаховой лоханью, украшавшей стол и напоминавшей гостям писателя о лучших днях.
Зыбкий, проблемный статус, какой приобрели мертвые к эпохе технической воспроизводимости, делал их существование задачей: если мы не ждем новой встречи, ее радостного утра, то нужно задействовать все средства, чтобы употребить во благо то, что от них осталось. Это чувство вздымалось когда-то широкой волной похоронных сувениров, волосяных колец с инициалами, фотографий с мертвецами, где те выглядели куда бодрей живых – бесконечная длина выдержки вынуждала позировавших к непоседливости с ее мелкими движениями, размывавшими черты до полного опустошения, так что и не понять было, кто в нарядной группе дорогой покойник, а кто – скорбящие остающиеся. К середине века дело довело себя до крайней точки, что бы ею ни считать – нарумяненное тело политического лидера, выставленное в хрустальном гробу на большой городской площади, или миллионы чужих тел, увиденных современниками как склад сырья или запчастей. То, что начиналось федоровским требованием оживить умерших, скорей извлечь их из дубовых гробов, чтобы они ходили и говорили; то, что было попытками воскресить старый мир силами слова – сделать так, чтобы липовый чай поработал живой водой, – уперлось в живую стену канувших и неспасенных, в простую невозможность вспомнить и назвать погибших по именам.
Волна, катившаяся два века, догнала нас – но вместо воскрешения прошлого дело кончилось мастерскими, что специализируются на набивке чучел и создании муляжей. Мертвые научились разговаривать с живыми: их письма, их записи на автоответчике, реплики в чатах и соцсетях можно разбить на мелкие элементы и запустить в программу, которая будет отвечать на мои вопросы словами тех, кого я любила. Два года, как такое приложение существует в Apple Store: там уже можно поговорить с человеком, известным как Принс, а можно – с двадцатишестилетним Романом Мазуренко, нелепо погибшим, переходя через улицу; спросишь его: «Где ты сейчас?», и он ответит: «Люблю Нью-Йорк», и никакой неловкости не произойдет, швы сойдутся, форточка не распахнется, мороз не пройдет по коже.
У разработчиков, сделавших в память о друге этот словесный призрак, было достаточно материала, цифровая эпоха позволяет ничего не стирать. Вместо одной – той самой – фотографии их сотни. Никто, включая и тех, кто фотографирует, не успевает увидеть все отснятое в полном объеме – на это ушли бы годы. Но это и не обязательно: главное, держать все фасетки в сохранности в ожидании генерального просмотра – того зрителя, у которого вдосталь и времени, и внимания, хватило бы не на одну жизнь; он-то и свяжет все случившееся воедино, вытянет события в линию. Больше этого сделать некому.
Веер возможностей, которые предоставляют новые носители, меняет способы восприятия: ни история, ни биография, ни свой текст, ни чужой больше не воспринимаются как цепочка – как события, разворачивающиеся во времени, скрепленные клеем причин и следствий. С одной стороны, этому можно только радоваться: в новом мире никто не уйдет обиженным, в безграничном пространстве накопителя всему находится место. С другой стороны, старый мир иерархий и рассказчиков держался на избирательности, на том, что говорится не всё и не всегда. В некотором смысле вместе с необходимостью выбора (между дурным и добрым, например) исчезает и само ведение добра и зла – остается мозаика фактов и точек зрения, принимаемых за факты.
Прошлое превращается в прошлые: одновременно сосуществующие слои-версии, часто имеющие всего одну или две точки пересечения. Твердое знание становится пластилиновым – из него можно лепить. Стремление вспомнить, восстановить, зафиксировать легко сочетается с неполным знанием и пониманием происходящего. Единицы информации, как в детской игре, могут быть связаны любым способом, в любом порядке – полностью меняя смысл в зависимости от того, куда их поведут. Друзья-филологи, немецкие, американские, русские, говорят, что их студенты прекрасно ловят подтексты, анализируют маленькие скрытые сюжеты, но не хотят или не могут говорить о тексте как целом. Предложите им пересказать какие-нибудь стихи, строчку за строчкой, о чем там речь, сказала я, и мне объяснили, что это-то и невозможно, они этого не умеют. Банальная повинность изложения, так же как и потребность рассказать историю, была списана в утиль, потонула в деталях, разбита на тысячи походных цитат.
* * *30 мая 2015 года я навсегда уехала из квартиры на Банном переулке, где прожила библейские сорок лет и год, сама удивляясь длине этого срока: все мои друзья переезжали с места на место, а то и из страны в страну, и только я чего-то ждала, как стародавние Шарлотты в своих усадьбах, в комнатах, где сидели и ходили бабушка и мама, с пустотой в том окне, где прежде стояли посаженные дедом южные, как в Одессе, пирамидальные тополя. После ремонта, который и сам успел состариться, вещи вроде как привыкли жить не на своих местах, но по ночам, когда закрываешь глаза и представляешь себе прозрачный объем пустой квартиры, они каким-то образом возвращались, смешиваясь во тьме, так что кровать, где я лежала, совпадала с очертаниями когдатошнего письменного стола, и его крышка укрывала мои голову и плечи, высоко над нами держалась полка с тремя фарфоровыми обезьянками, отказавшимися видеть, слышать и говорить, а в соседней комнате возвращались на место толстые оранжевые занавески, торшер, накрытый шелковой шалью, и большие старые фотографии.
Теперь ничего этого не осталось, не на что было даже сесть – квартира превратилась в ряд пустых коробочек, в каких держат пуговицы и мотки ниток, стулья и диваны разъехались по другим домам, в дальней комнате неспокойно, как днем, горел свет, и даже двери уже были нараспашку в ожидании новых хозяев. После того как были переданы из рук в руки ключи и я посмотрела напоследок на бледное небо над балконом, жизнь покатилась гораздо быстрей, чем умела раньше. Книга о прошлом писала себя, пока я переезжала с место на место, перебирая наличные воспоминания, как считала багаж дама из детского стишка – картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Так, на перекладных, я доехала до Берлина, где книжка замерла, и я вместе с ней.
Красивый и старорежимный район, где я поселилась, когда-то считался русским и всегда был литературным – имена улиц были знакомые, в доме напротив жил Набоков, еще через два – человек, по обоюдному согласию заживо съевший товарища, и в квадратном дворике стояла у коновязи дюжина соседских велосипедов. Все здесь подразумевало некоторую прочность, очень условную, как подумаешь, что сам город уже много лет был важен человечеству скорее пустотами и зияниями, чем зданиями, вставшими на месте каких-то из этих пустот. Мне нравилось думать, что мои записки о невозможности памяти могут писаться внутри чужой невозможности: в городе, для которого собственная история стала раной и отказывалась зарастать розовой кожицей забвения.
Он как бы разучился наводить на себя уют, и жители уважали такое его свойство; там и сям шла незаживающая стройка, улицы перегораживали бело-красными щитами, взрезали асфальт, открывая зернистое земляное нутро, и повсюду гулял ветер, расчищая место для новых пустошей. Перед каждым подъездом вживленные в тротуар медные квадратики означали понятно что – даже если не останавливаться, чтобы прочитать имена и высчитать, сколько было лет тем, кого увезли из светлых домов с высокими потолками в Терезиенштадт или Аушвиц.
В веселой квартире с метлахскими кафельными плиточками мне никак не удавалось сделать ничего из того, зачем я здесь очутилась. Устроив как-то свою здешнюю жизнь, разложив бумаги, записавшись в библиотеку и получив на руки читательский билет с чужеватой оскаленной фотографией, я быстро свела все занятия к ровному и неустающему беспокойству, что крутило зубчатые колесики у меня в животе. Не очень помню, что именно я делала каждый день, кажется, всё больше переходила из комнаты в комнату, пока не поняла, что единственное, что получается у меня сейчас хорошо, – перемещаться. Движение меня как бы извиняло, неисполненные планы вытеснялись количеством шагов, физическим объемом пройденного. Был у меня и велосипед, старый голландский зверь с гнутой рамой и желтым фонариком во лбу. Белый когда-то, на бегу он издавал жестяной сопящий звук, словно соприкосновение с воздухом выжимало из него последние силы, и отчетливо тикал при торможении. В давнем немецком романе, который любила моя мама, действовал автомобиль Карл, призрак шоссе – и что-то близкое, призрачное было в том, как лихо мы вписывались в невидимые туннели, позволявшие скользить между людей и машин, не оставляя следов ни в их памяти, ни в моей.
Велосипедная езда здесь имела новый, незнакомый характер; весь город жил на колесах, крутил педали с тщанием, но и с некоторой даже непринужденностью, словно так полагается и ничего странного для взрослого человека в таком поведении нет. Вечерами, когда от нас оставалось всего ничего – тихий стрекот и быстро перемещающийся свет, – становилось еще прозрачней удобное устройство города, словно предназначенного для того, чтобы оказываться в следующем не-здесь, вовсе того не замечая, как в том кафкином тексте, где всадник скачет по степи – уже без стремян, без узды, без лошади, без себя самого. Казалось даже, что улица услужливо проминается при появлении очередного ездока, подставляя ему покатую плоскость, чтобы перемещение не стоило совсем уж никаких усилий, чтобы он и вовсе не замечал, что мчит куда-то. В такой легкости был свой гигиенический смысл: витрины, прохожие и маленькие собачонки не были отделены от меня даже слоем автомобильного стекла, но скорость и насекомый шелест, исходивший от моего транспортного средства, делали все вокруг непроницаемым и слегка размытым, словно я уже была неуязвимым воздухом, проходящим сквозь пальцы.
Как, думала я, должны были тосковать об этом чувстве невидимости и неуязвимости те, кто скоро так или иначе стал воздухом и дымом, а пока просто был приговорен к хождению по земле распоряжением от 5 мая 1936 года, лишавшим некоторое количество горожан права на владение и пользование велосипедом. Причем, как стало ясно позже, из дополнительного распоряжения, теперь им следовало всегда оставаться на солнечной стороне улицы, без всяких шансов слиться с тенями или, того пуще, позволить себе роскошь беспрепятственного скольжения. К тому же и общественным транспортом этим лицам пользоваться было нельзя, словно кто-то поставил себе задачей напомнить им, что телесная, плотяная машина – единственное достояние, что у них теперь есть, и только на нее им следует полагаться.
Дождливым октябрьским вечером, когда все встречные имели какой-то неестественный угол наклона, более уместный для деревьев под ветром, я свернула (с Кнезебекштрассе на Моммзенштрассе, и только оттуда на Виландштрассе, написал бы Зебальд) на улицу, где жила когда-то Шарлотта Саломон, в силу некоторых обстоятельств казавшаяся мне почти что родственницей, к дому, где она жила с самого рожденья и до тридцать девятого года, когда ее наскоро собрали и отправили во Францию, спасать от общей судьбы. Худшие истории о побеге и спасении – те, что с обманной концовкой, те, когда вслед за чудом приходит все та же, заросшая в ожидании гнусной шерстью гибель; так оно и вышло с Шарлоттой. Но этот берлинский дом расстался со своей девочкой бережно – разве что из окна ей пришлось посмотреть на митингующие толпы с косыми полотнищами плакатов, но ведь такое тогда показывали в любом окошке, и эти, прекрасные, с разумными квадратиками ар-нувошных рам, просто делали свою работу. Сейчас, за усиливающимся дождем, там горел слабый свет, причем не во всей огромной квартире, но лишь в одной из комнат, а другие он оставлял сумрачными, так что о высоте потолков и лепнине там, вверху, можно было скорее гадать, чем судить. В книге, которую я с детства не перечитывала, на выставке показывали популярную картину в золоченой раме. Там был снежный город, знакомый угол улицы, окна, подсвеченные теплым, сходство захватывало дух – пока с края на край изображения, смещая объемы, отбрасывая тени, не поехал нежданный извозчик. Так, непонятно почему, испугалась я, когда на темном балконе вдруг произошло движение, обозначился кончик сигареты и сильно потянуло дымком.
Понемногу я полюбила и метро, обе его разновидности, надземную и подземную, сиротский запах сладкой сдобы и резины, монструозную схему линий и направлений. Стеклянные голубятни станций с арочными сводами, которые намекали на то, что под ними можно укрыться, казались мне времянками, не заслуживающими доверия. Но при этом я почему-то сразу успокаивалась, когда мы въезжали в железную утробу главного вокзала, словно его прозрачная каска гарантировала передышку, быстрое и полное затемнение перед новым выходом на свет. На перроне всегда крутилась тугая толпа, вагон разом заполнялся до отказа, входили кто с велосипедом, кто с огромным, выше всякого роста, контрабасом в гробовом черном футляре, кто с собачкой, которая сидела смирно, словно с нее делали черно-белую окончательную фотографию. Уже тогда мне казалось, что все это происходит в давно отслоившемся прошлом, на расстоянии вытянутой руки. В некоторые минуты даже можно было смотреть на освещенный вагончик и себя в нем со стороны, словно это детская железная дорога с пластмассовыми человечками, рассаженными по лавкам. Мокрый город крутился в окне, как лежачее колесо обзора, предъявляя в основном промежутки – всё те же пустоты и просветы, в которых иногда показывали что-то более плотное, колонну или купол, кубик или шар.
В наступившем безвременье до всего было близко, особенно когда мы проезжали места, которые я знала, забыла и вспоминала заново, и все они годились для временного обогрева. Вот тут я когда-то жила несколько дней в гостинице, развлекавшей жильцов странной затеей. Узкий и длинный холл был подсвечен бирюзовым, словно ты шел внутри коктейльной трубочки, зато в самом его конце, там, где сгрудились нахохленные постояльцы, ярко горел камин, выделяя зримое тепло. Только у самой стойки портье становилось понятно, что мы собрались вокруг обманки – огонь разворачивался во всю ширину плазменного экрана, висевшего на стене, потрескивал там, создавая полезный и безопасный уют. Вместе с пластиковым ключом мне выдали две бирюзовые карамельки аптечного вида, и я взяла их наверх, в узкую комнату кроватной формы, где умывальник был как-то хитро совмещен со шкафом и вешалкой. Но стена напротив была пустая, никакие картины или фотографии не отвлекали от главного. Потому что тут тоже был свой, поменьше, экран с горящим поленом, воркованье и чавканье пламени слышно было с порога, и я, как вошла, села на бирюзовое покрывало и, сообразно замыслу, стала смотреть огню в пасть.
К середине ночи, пока не сообразила, где искать кнопку выключателя, я стала понимать нравоучение, маленький урок, который гостиничные хозяева предлагали гостям в качестве ненавязчивой обязательной программы, вроде стишков, украшающих в этих краях домашние вещи – затейливо выписанных или вышитых «Кто рано встает, тому Бог подает». Единственное, вертикально стоящее, как когда-то пещные отроки, полено было поначалу тронуто огнем лишь по самому краю, словно это был заранее заготовленный нимб, предвестник скорого мученичества. Потом жар усиливался, трогая, казалось, и мое лицо: пламя разворачивалось, гудя и приседая, и доходило до самого верха экрана, пчелиный треск делался гуще. Постепенно накал снижался, картинка становилась темней, и вот, раз за разом, полено охало и рассыпалось в прах, в красные угольки. Тогда экран на несколько мгновений темнел, его сводило быстрой судорогой – и вдруг изображение расправлялось, и передо мной снова стояло живехонькое, воскресшее полено, словно с ним не приключилось никакой беды. Эти штуки (вернее, эта видеозапись, казавшаяся мне все ужасней по ходу того, как время шло) повторялись из раза в раз, причем я следила за происходящим все внимательней, словно надеялась на хоть какое-нибудь слабое различие, перемену сценария. А дерево все продолжало восставать из мертвых в расступающейся тьме.
Неглава, Николай Степанов, 1930
Ветхий, слабой серой бумаги листок с машинописью.
Брак моих дедушки и бабушки был зарегистрирован только в начале сороковых годов.
«Не задолить» – не промедлить.
В ржевский ЗАГС от гражданина г. Твери
Степанова Н. Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим прошу Ржевский ЗАГС зарегистрировать ребенка рожденного ДОРОЙ ЗАЛМАНОВНОЙ АКСЕЛЬРОД на мое имя как на имя отца этого ребенка. Удостоверение личности выслано мной и по Вашему требованию оно будет Вам предоставлено.
По имеющим у меня данным мне известно, что как будто бы ЗАГС не регистрирует ребенка лишь потому что официально (если смотреть на чистоту страниц удостоверения личности) я в браке не зарегистрирован с Д. З. Аксельрод – но это не так.
В Советской стране незаконнорожденных детей нет, да и не может их быть.
А потому я думаю, что нерегистрация моего брака не может вызвать нерегистрацию моего ребенка на мое имя.
Не имея возможности сейчас приехать лично в г. Ржев я и прошу ЗАГС исполнить мою просьбу, т-е Девочку, рожденную моей женой зарегистрировать на мое имя в высланном Вам моем удостоверении личности и незадолить с официальным оформлением рождения ребенка.
В чем и подписываюсь:
Н. Степанов
<Печать Тверского райкома ВКП>
Подпись руки работника Тверского Горрайкома ВКП(Б) тов. СТЕПАНОВА заверяю:
Управделами Тверского Горрайкома ВКП(б)
<Приписано от руки:>
Если же ребенок уже записан не на мое имя, то я согласно всех действующих законов настаиваю на том, чтобы его переписали на мое имя. Соглашаться с тем, что Вам угодно – не имею ни малейшего желания. Н. Степанов
Глава восьмая, прорехи и диверсии
Время от времени тебе присылают картинку с сюрпризом: открытку или интернет-ссылку. Лицо на фотографии кажется друзьям удивительно похожим на твое: расстановка черт, родство выражений, волосы, глаза, нос. Выстроенные в ряд, эти картинки внезапно поворачиваются другой стороной и демонстрируют одно: что между ними нету ничего общего – кроме тебя-знаменателя; что, как говорится, любые совпадения случайны.
Или это не так – и что должны тогда значить сходства, почему они вызывают у отправителя и получателя такое внутреннее ликование, словно найдено что-то очень существенное, обнажена скрытая механика? Соблазнительно считать их выражением какого-то другого порядка: подбора не по родству, не по соседству, а по замыслу – по зарифмованности с незнакомым тебе образцом. Такие доказательства внутреннего ритма мироустройства трудно не ценить, и писатели, от Набокова до Зебальда и обратно, радуются звоночкам соответствий – вроде того что дата смерти на могильной плите оказывается твоим днем рождения, синие предметы подсказывают правильный выход, а сходство с боттичеллиевской Сепфорой или чьей-то правнучкой становится поводом для страсти.
Впрочем, кажется, что дырчатое и пористое устройство мироздания таково, что не-рифм (штучных вещей, не имеющих аналогов и прецедентов) гораздо меньше, чем рифм: everything suits everything, в коридор отражений попадаешь не глядя, как ступают ногой в кротовую нору. Натертые до блеска, навощенные магическими свойствами, которые мы им приписали, случайные сходства как бы подтверждают человеку правомочность его присутствия в мире, родство всего со всем, надежное тепло гнезда с его веточками, пухом и экскрементами: до тебя тут уже были, будут и после тебя.
Но это не единственный вариант. Антрополог Бронислав Малиновский писал о том, какой ужас и неловкость вызывало классическое он так похож на бабушку в культуре, устроенной по непривычному нам образцу. «Мои доверенные информаторы сказали мне… что я нарушил обычай, что я совершил то, что называется „тапутаки мигила“ – выражение, относящееся только к этому действию и которое можно перевести „сделать кого-то нечистым, осквернить его, уподобив его лицо лицу его родственника“».
Указание на семейное сходство воспринималось как нечто оскорбительное, неподобающее: человек не похож ни на кого, ничего не повторяет, он здесь впервые и представляет лишь себя самого. Отрицать это – значит сомневаться в его существовании. Или по Мандельштаму: живущий несравним.
Есть совсем короткий (он длится минут пятнадцать) фильм Хельги Ландауэр; я держу его в компьютере и то и дело смотрю, как перечитывают книгу. Он называется непереводимым словом Diversions, которое может значить примерно что угодно: от различий до развлечений, от уклонений и обходных путей до отвлекающих маневров – одним из них становится само название. Вместо указаний мне, зрителю, предлагают последовательность стрелок, каждая из которых глядит в новую сторону: не план, не маршрут, а флюгер. Что-то очень похожее происходит и на экране.
Люди в нелепых шлемах топчутся на мелководье, лодка вот-вот отвалит. Голоногие матросы несут их на закорках, как поклажу. Над поверхностью воды дрожат зонтики.
Кружево раскачивается на сквозняке.
Темная масса листвы, зонт над мольбертом художника, мутный свет дождя.
Дети, как олени, смотрят из-за деревьев.
Весло разбивает сияющую воду, по ней проходит длинная морщина. Солнце, и не видать, кто плывет.
С улыбкой от уха до уха, как у черепа, дама тянет удочку из воды.
Победная мощь женских шляп с их мехом, пером, крылом, девятым валом избытка.
Масса листвы, в которой возится ветер; дети, как зверьки, перебегают изображение из края в край.
Высокие цветы в белой вазе стоят на своем столе почти невидимые, как все неглавное.
Усы и бицепсы атлета.
Усы и котелки торопящихся прохожих, один увидел нас и приподнимает шляпу.
Велосипеды и канотье, трости и портфели.
Сосна накренилась, человек в темном бредет краем моря, только спину и видно.
Идут люди и еще люди.
Торопятся смешные парковые поезда; оттуда машут пассажиры.
Дети сусликами выглядывают из ветвей.
Мертвые деревья лежат вдоль дороги.
Мужчина в рабочей одежде набрал воды в сложенные ладони и поит из них маленькую собачонку.
Голуби садятся на парковую дорожку.
Девочка с зонтиком ищет родных в толпе.
Круглые, с атласистыми боками, взлетают шары-монгольфьеры.
Двое, один волнуется, другой успокаивает.
Женщины в длинных юбках гоняют веерами по дерну воздушные шарики.
Беззлобная и неловкая улыбка возникает в левом углу, словно свет включили.
Торопясь, несут к причалу длинные ластовидные весла.
Вода набегает на берег, откатывается, обнажая гравий.
Складные стулья отбрасывают тени на мокрый песок.
Белое, белое небо над эстрадой с музыкантами.
От танца юбки разлетаются.
Мальчик продает фиалки.
На столе газеты и стаканы с водой, на блюдце пачка сигарет «Chesterfield». «Буффало Билл», говорится в заголовке.
Кирпичная стена освещена солнцем.
Вывеска «Дансинг каждый вечер».
Лошадь перебирает чулочками.
Полные короба винограда, вам завернуть на фунт?
Проборы кружевниц, склоненные над работой.
Рука в его руке.
Усталый за день воротничок.
Шляпа надвинута на глаза.
Машина сворачивает за угол.
Пуговицы аккордеона.