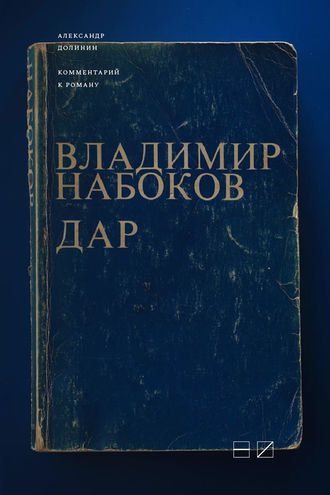
Полная версия
Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар»
Набоков, несомненно, отнесся к новому жанру весьма несочувственно. В самом «Даре» имеется несколько язвительных уколов по адресу «романизированных биографий». Ими балуется омерзительный начальник Зины, юрист Траум (370–371); уже в первой главе романа Александр Яковлевич Чернышевский, олицетворяющий банальный «полуинтеллигентский» вкус, советует герою написать «в виде biographie romancée, книжечку о нашем великом шестидесятнике» (226); затем жена Александра Яковлевича предлагает Федору вместо биографии Чернышевского писать «жизнь Батюшкова или Дельвига, – вообще, что-нибудь около Пушкина» (376) – весьма прозрачный намек на «Кюхлю» и «Смерть Вазир-Мухтара». Наконец, объясняя Зине замысел своей книги, Федор говорит ей: «… я хочу это все держать как бы на самом краю пародии. Знаешь эти идиотские „биографии романсэ“, где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы?» (380).
Намекая на популярную книгу Моруа «Дон Жуан, или жизнь Байрона» (см.: [3–110]), Набоков выступает против приема, который можно было бы назвать обратной проекцией, когда фрагменты поэмы или лирического стихотворения пересказываются прозой и в таком виде выдаются за впечатления, размышления, воспоминания, мечты или сны героя, предшествовавшие созданию данного текста. Kроме Моруа, этим приемом охотно пользовались едва ли не все авторы романизированных биографий поэтов – например, Тынянов и Ходасевич в жизнеописаниях Пушкина (см.: Сурат 1994: 88–91; [3–110]), поскольку он открывает широкие возможности для психологизации. Для Набокова же именно психологизация в биографии была категорически неприемлема. В юбилейном франкоязычном докладе «Пушкин, или Правда и правдоподобие» (1937) он говорил, что в современных биографиях ему претит
… la psychologie du sujet, le freudisme folâtre, la description empâtée de ce que le héro pensait à tel moment, – un assemblage de mots quelconques pareils au fil de fer qui retient les pauvres os d’un squelette, – terrain vague de la littérature où, parmi de chardons, traîne un vieux meuble évantré que personne n’a jamais vu y venir (Nabokoff-Sirine 1937: 364) [ … психология исторического лица, игривый фрейдизм, пастозный рассказ о том, что подумал герой в тот или иной момент, – соединение слов, несколько напоминающее проволоку, которой скрепляют бедные косточки скелета, – пустырь литературы, где среди чертополоха валяется старая мебель с распоротой обивкой, невесть откуда взявшаяся (фр.)].
За этой филиппикой в машинописи доклада следует еще одна саркастическая фраза, выпущенная в печатном тексте:
Belle psychologie qui attribue au poête les sentiments de personnages factices recueillis un peu partout parmi les “oeuvres complètes” (“Le vrai et le vraisemblable”, draft // LCVNP. Box 10) [Чудная психология, которая приписывает поэту чувства вымышленных персонажей, выисканные в полном собрании его сочинений (фр.)].
Даже для самого целомудренного ученого – предупреждает далее Набоков – может наступить «роковой момент, когда он почти безотчетно начинает сочинять роман, и тогда напоказ выставляется литературная ложь, не менее грубая в этом труде добросовестного эрудита, чем в поделке бесстыдного компилятора» (Nabokoff-Sirine 1937: 367).
По правдоподобному предположению Л. Ф. Кациса, Набоков имел в виду романы-биографии «добросовестного эрудита» Тынянова (Кацис 1990; см. также: Маликова 2002: 118). Эти оценки, по сути дела, совпадают с тем, что писал о Тынянове Ходасевич, союзник Набокова в литературных войнах 1930-х годов. В «Кюхле», утверждал он, есть «свои достоинства: знание эпохи, хорошая начитанность», но в целом метод этой работы ложен: «для биографии в ней слишком много фантазии, для романа же слишком мало» (Возрождение. 1931. № 2172. 14 мая). «Смерть Вазир-Мухтара» – «кусок биографии Грибоедова, написанный с чрезвычайно вычурными и сознательными отступлениями от исторической правды» (Возрождение. 1935. № 3690. 11 июля). «Пушкин» – «романизированная биография с исключительно развитым элементом вымысла. Пользуясь действительными событиями пушкинской жизни, как конспектом или канвой, Тынянов на ней расшивает бытовые и психологические узоры, подсказанные фантазией» (Там же).
Принципы, которыми сам Ходасевич руководствовался как биограф, он изложил в предисловии к «Державину»:
Биограф – не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать. Изображая жизнь Державина и его творчество (поскольку оно связано с жизнью), мы во всем, что касается событий и обстановки, остаемся в точности верны сведениям, почерпнутым и у Грота, и из многих иных источников. Мы, однако, не делаем сносок, так как иначе пришлось бы их делать едва ли не к каждой строке. Что касается дословных цитат, то мы приводим их только из воспоминаний самого Державина, из его переписки и из показаний его современников. Такие цитаты заключены в кавычки. Диалог, порою вводимый в повествование, всегда воспроизводит слова, произнесенные в действительности, и в том самом виде, как они были записаны Державиным или его современниками (Ходасевич 1988: 30).
В «Жизни Чернышевского» Набоков в основном держится тех же правил, что и Ходасевич, но, в отличие от последнего, мало занимается психологическими реконструкциями. Почти все немногочисленные предположения касательно чувств Чернышевского и мотивов его поступков переданы вымышленному биографу со значимой фамилией Страннолюбский, alter ego Годунова-Чердынцева, а сам автор искусно монтирует цитаты и перифразы из десятков документальных источников, лишь изредка отклоняясь от фактов и/или подвергая их мягкой художественной обработке (сокращения и лексические замены, добавление имен и мелких деталей, в основном визуальных), но не деформируя до неузнаваемости, как это часто делает тот же Тынянов.
На первый взгляд, такой подход к биографии близок к тому, который прокламировали лефовские теоретики «литературы факта» в СССР. Один из них, Н. Ф. Чужак, в статье «Писательская памятка» подверг резкой критике призыв московского критика Ю. В. Соболева «написать такие увлекательные романы, как биографии <… > Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Полежаева». По его мнению, Соболев и другие любители беллетризованных биографий «примазываются» к «литературе факта»; это «гурманы старого художества, объевшиеся „красотой“; эстеты, потребители приевшегося вымысла, которых потянуло на „кисленькое“. Задача настоящего писателя-документалиста заключается в том, чтобы «работать на факте» и выявлять в жизни реального человека «натуральную сюжетность», которая «невъедчивому глазу незаметна»: «Искусство увидеть скрытый от невооруженного взгляда сюжет – это значит искусство продвижки факта; а искусство изложить такой сюжет будет литература продвижки факта <… > т. е. изложение скрытосцепляющихся фактов в их внутренней диалектической установке» (Чужак 2000: 25, 224; курсив оригинала).
Формально Набоков ничем не погрешил против заповедей Лефа. В его биографии Чернышевского (в отличие от книг Моруа, Людвига или Тынянова) вообще нет никакой «беллетристики» – нет ни одного вымышленного эпизода и диалога, ни одной произвольно приписанной реальному лицу фразы или мысли; местами повествование строится как «факто-монтаж», где каждая фраза имеет документальную основу. Играя с правилами «литературы факта», Набоков стремится выявить в жизни Чернышевского те самые скрытые сцепления фактов, о которых писал Чужак, но представляет и осмысляет их совсем не так, как этого хотели бы лефовские идеологи.
Обсуждая романы Тынянова, Б. М. Эйхенбаум заметил, что их доминантой является понятие «судьбы», и пояснил: «Я употребил слово „судьба“ в том смысле, в каком оно подчеркивает наличие некоторой необходимости или закономерности и дополняет, таким образом, более безразличное слово – „биография“. Чувство истории вносит в каждую биографию элемент судьбы – не в грубо фаталистическом понимании, а в смысле распространения исторических законов на частную и даже интимную жизнь человека. Исторический роман нашего времени должен был обратиться к „биографии“ – с тем чтобы превращать ее в нечто исторически закономерное, характерное, многозначительное, совершающееся под знаком не случая, а „судьбы“» (Эйхенбаум 1969b: 403). Набоков тоже рассматривает биографию Чернышевского «через призму судьбы», но судьба для него – это не строгая блюстительница исторических предначертаний, а лукавая насмешница, «союзница муз», которая наказывает «властителя дум» за полную эстетическую слепоту и глухоту. Соответственно, «скрытую связность» жизни героя придает вовсе не исторический закон, а закон эстетический, и она носит художественный характер, словно бы индивидуальная судьба была «сочинена» неким творцом, воспользовавшимся наличным биологическим, психологическим и историческим материалом. Из множества документов Набоков тщательно отбирает такие факты, которые кажутся неправдоподобным вымыслом, гротеском, преувеличением; он заостряет внимание на перекличках ситуаций, предметов, имен, дат, складывающихся в тематические ряды, на подробностях, которые могут быть поняты фигурально, на игре случайностей, в которых угадывается тайная закономерность. Иными словами, он разрушает исторически детерминированные образы Чернышевского – вождя, мыслителя, борца, общественного деятеля, мученика, прочитывая его жизнь как изящно построенную и остроумную трагикомедию ошибок, которая скрыта под напластованиями «общественной» агиографии и апологетики.
В отличие от большинства авторов художественных биографий, Набоков нигде не переходит на точку зрения своего героя, а прослеживает его жизнь с позиции внешнего наблюдателя, которого не перестают удивлять и забавлять характер, склад ума и слог Чернышевского. В лекциях 1928 года об искусстве биографа Моруа говорил: «Душа человека, пишущего жизнеописание Карлейла, уподобляется, по крайней мере в определенные моменты, душе Карлейла. Если биограф не способен на такую отзывчивость чувств, он напишет мерзкую биографию» (Maurois 1939: 132). В биографии, написанной Федором Годуновым-Чердынцевым, никакое сродство душ автора и его героя не обнаруживается; напротив, автор разными способами, среди которых преобладает ирония, дает понять, что Чернышевский ему чужд и неприятен, хотя и заслуживает некоторого сочувствия как невинная жертва государственного произвола. Ироническое дистанцирование биографа от мало симпатичных ему героев было излюбленным приемом английского писателя Литтона Стрейчи (Giles Lytton Strachey, 1880–1932), автора знаменитых биографий королевы Виктории («Queen Victoria», 1921) и видных деятелей ее царствования («Eminent Victorians», 1918). Как показала Г. Димент, в подходах Стрейчи и Набокова к биографии много общего: «В лучших традициях Стрейчи Набоков стремится развенчать видного деятеля, который, по его убеждению, воплощает не только заблуждения прошлого, но и катастрофы настоящего. Подобно тому как для Стрейчи кардинал Мэннинг, Флоренс Найтингейл, доктор Арнольд и генерал Гордон олицетворяли все то, что было ложным в викторианской культуре, и, следовательно, несли ответственность за трагедию его поколения, ввергнутого в Первую мировую войну, Чернышевский и его единомышленники для Набокова отвечали не только за примитивное мировоззрение русской радикальной интеллигенции 1860-х годов, но и за разрушительную Революцию и ее последствия» (Diment 1990: 290).
Отмечалoсь и некоторое сходство «охудожествления» биографического нарратива у Набокова с методом, разработанным Стрейчи. Д. П. Мирский писал в 1924 году: «Стречи < sic!> революционизировал искусство биографии, создав новый вид творческой и художественной биографии <… > стремящийся к созданию законченного, замкнутого, сжатого художественного произведения. <… > Он ничего не выдумывает. Каждое утверждение его, каждая фраза, каждый эпизод имеют под собой солидную почву достоверности. Но он комбинирует, и путем комбинации иногда мельчайших и незаметных деталей он создает из своих героев такие живые и убедительные фигуры, что они могут идти в сравнение только с созданиями великих романистов» (Мирский 2014: 75–76). Как заметила М. Э. Маликова, это описание «как нельзя точно относится <… > к методу самого Набокова в „Жизни Чернышевского“, основанной не столько на формалистской „деформации“ обширного и скрупулезно собранного документального материала, сколько на его комбинации и выявлении (иногда с добавлением „окраски“) мелких, но красноречивых деталей» (Маликова 2016: 233).
В русской литературе до Набокова подобный комбинаторный метод начал разрабатывать Г. П. Блок в небольшой книге «Рождение поэта. Повесть о молодости Фета. По неопубликованным материалам» (1924), которая, по мнению О. Ронена, могла повлиять на «Жизнь Чернышевского» (Ronen 1993: 50). Он строит документальное повествование, основанное на переписке и автобиографической прозе трех университетских друзей – Фета, Иринарха Введенского и Аполлона Григорьева, в художественном ключе – расцвечивает портреты действующих лиц, описания мест и событий яркими подробностями, перифразирует и монтирует цитаты (часто раскавыченные) из разных источников, дает иронический авторский комментарий к документальным свидетельствам. Любопытно, что среди эпизодических персонажей «Рождения поэта» появляется молодой Чернышевский, охарактеризованный как «рыжеволосый юноша с крикливым, тонким голосом, заядлый спорщик» (Блок 1924: 89). У Набокова тоже отмечены рыжеватые/с рыжинкой волосы Чернышевского и его тонкий, «пискливый» голос (см.: [4–2], [4–66], [4–245], [4–249], [4–252], [4–479]).
В рецензии на книгу Блока, напечатанной в «Современных записках», Мирский отметил, что ее метод «замечательно близок» к методу Литтона Стрейчи; он «одновременно и художественен, и строго научен; все утверждения строго обусловлены материалом, но преображены в „явления стиля“», и потому книга «подлежит именно художественной критике». При этом Мирский указал и на существенные недостатки книги: «Блок смеет писать хорошо. <… > Это ему не всегда удается, у него иногда не хватает такта и вкуса, иные приемы неуместно лиричны». Главное же, в чем Блок уступает Стрейчи, – в «искусстве композиции, меры и пропорции». По мнению критика, книга могла бы стать первой главой «Жизни Фета», но только при условии существенной переработки, чтобы пропорции диктовались не «наличностью материала, но композиционной схемой целого» (Мирский 2014: 116–117).
Биографии Фета Блок так и не написал, но Набоков, как кажется, учел его опыт. В его «Жизнеописании Чернышевского» «композиционная схема целого» – как сказано в романе, «кольцо, замыкающееся апокрифическим сонетом» (384), внутри которого развертывается ряд сквозных тем (см.: Johnson 1985: 94), – строго расчислена, а пропорции соблюдены. В отличие от Стрейчи и Блока, Набоков ведет повествование от лица персонифицированного нарратора, который внимательно следит за ходом своего рассказа и время от времени комментирует его устройство. Приведем несколько примеров таких метакомментариев на первых пятнадцати страницах текста:
– Тут автор заметил, что в некоторых уже сочиненных строках продолжается, помимо него, брожение, рост, набухание горошинки, – или, определеннее: в той или иной точке намечается дальнейший путь данной темы, – темы «прописей» <… > Развивается, замечаем, и тема «близорукости», начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал, и видел лишь четыре из семи звезд Большой Медведицы. <… > Проследим и другую, тему «ангельской ясности». Она в дальнейшем развивается так: <… > И еще третья тема готова развиться – и развиться довольно причудливо, коли недоглядеть: тема «путешествия», которая может дойти Бог знает до чего – до тарантаса с небесного цвета жандармом, а там и до якутских саней, запряженных шестеркой собак (393–395).
– У меня продолжают расти (сказал автор) без моего позволения и ведома идеи, темы, – иные довольно криво, – и я знаю, что мешает: мешает «машина»; надо выудить эту неуклюжую бирюльку из одной уже сложенной фразы. Большое облегчение. Речь идет о перпетуум-мобиле (395).
– Мы, сознательно, залетели вперед; вернемся к той рысце, к тому ритму Николиной жизни, с которым наш слух уже свыкся (397).
– Но стоп: тема слез непозволительно ширится… вернемся к отправной ее точке (399).
– … ребячески нелепые планы ссыльный Чернышевский, старик Чернышевский, придумывает для достижения трогательнейших целей. Вот как она пользуется минутой невнимания и распускается, эта тема. Стой, свернись (403).
– Вступает тема кондитерских (404).
– Но как ни хочется поскорее вылезти из черного уголка, куда нас завел разговор о кондитерских, и перейти на солнечную сторону жизни Николая Гавриловича, все же (ради некой скрытой связности) я еще немного тут потопчусь (405–406).
В результате биография приобретает некоторые черты метанарратива, обычно не присущие этому жанру, и тем самым становится чем-то вроде встроенной модели всего романа в целом, поскольку «Дар», как было многократно замечено исследователями, тоже имеет кольцевую композицию, подобную ленте Мебиуса (Ronen 2015: 85) или уроборосу (Johnson 1985: 95), и содержит большое количество разнообразных метатекстов и метакомментариев (подробнее см.: Левин 1981: 199–204). Набоков несомненно знал о том, что в 1920‐е годы как в западной, так и в русской литературе было предпринято несколько интересных попыток создать модернистский метароман, героем которого был бы писатель, а сюжетом (или, по крайней мере, темой) – сама история создания им литературного произведения. Наиболее известным западным романом подобного типа были «Фальшивомонетчики» (1925) Андре Жида, о которых много писали как эмигрантские, так и советские критики. Один из его героев, писатель Эдуард Х., сначала обдумывает, а потом начинает писать свой роман под тем же названием, где, по его словам, центральной фигурой является персонаж-романист, а сюжетом – «борьба между фактами, которые ему предлагает реальность, и идеальной действительностью [la lute entre les faits proposés par la réalité, et la réalité idéale (фр.)] » (Gide 1958: 1082). Эдуард обсуждает замысел романа со своими знакомыми, которые впоследствии станут прототипами его персонажей, и даже показывает одному из них черновик эпизода, ему посвященного. Повествование от лица всезнающего автора перемежается с большими выдержками из дневника Эдуарда, где он излагает свои мысли о будущей книге и ее героях. Как заметил В. В. Вейдле (критик, которого Набоков высоко ценил), «перед нами, таким образом, как бы одновременно – действительность и ей параллельное, слагающееся из нее художественное произведение: два мира, – и мы то постепенно, то внезапно переходим из одного в другое. Жид хочет дать нам сразу и роман, и картину создания этого романа и размышления по поводу его создания» (Вейдле 1928).
Несмотря на совпадение заглавий, роман Эдуарда и тот роман, который мы читаем, ни в коем случае не могут быть отождествлены. Это постоянно подчеркивает всезнающий автор основной части текста, когда, например, признается, что его герой часто раздражает его (Gide 1958: 1108–1109), или подробно рассказывает историю самоубийства юноши, которую Эдуард отказывается включить в свой роман, и т. п. Неправы критики, – замечал Мочульский, – полагающие, что «Эдуард не кто иной, как сам автор, и все рассуждения его – рассуждения Андре Жида. Выходит очень просто и очень плоско: автор дает рецепт жанра и тут же его стряпает. Теория: вот как следует писать романы (дневник Эдуарда), и параллельно практическое упражнение (сложная фабула с переплетающимися интригами). Эта двойственность построения, конечно, вполне мнимая. Стоит только вспомнить, что Эдуард не автор, пишущий „Фальшивомонетчиков“, а главный герой этого романа. Его дневник – не комментарий, без которого действие могло бы свободно обойтись, а самый источник действия. В этом приеме вся необычность и своеобразие композиции» (Мочульский 1999: 263).
Перевод «Фальшивомонетчиков» вышел в Ленинграде меньше чем через год после оригинала (Жид 1926) и стимулировал развитие отечественного метанарратива. Почва для апроприации новшеств Жида была подготовлена работами русских формалистов и прежде всего Шкловского, который неоднократно указывал на авторефлективность классических образцов жанра – «Дон Кихота», «Тристрама Шенди» и «Евгения Онегина», чьим главным содержанием он полагал «его собственные конструктивные формы» (Шкловский 1923a: 211). За короткий период с 1927 по 1929 год в СССР появились три значительных романа – «Вор» Леонида Леонова, «Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова» Константина Вагинова, – в которых так или иначе были использованы некоторые приемы «Фальшивомонетчиков»: игра с двойным авторством, введение разнообразных «текстов в тексте», несовпадения между этими текстами и показанной «внешним» автором «реальностью», децентрированный сюжет и т. п. Некоторые черты метанарратива отмечались и в «Египетской марке» Мандельштама (Сегал 1981: 195–197).
В «Воре», o сходстве которого с романом Жида говорили уже первые критики (см.: Shepherd 1992: 42), писатель Федор Фирсов (тезка Годунова-Чердынцева) погружается в жизнь московского воровского дна, чтобы написать о нем книгу; как Эдуард, он ведет записную книжку, которая «с изуверством зеркала отпечатлевала всякую ничтожную мелочь», и ее фрагменты приводятся в тексте (Леонов 1928: 203, 387–393); в нем борются желание быть верным жизненной правде и стремление искажать ее «до слепительного великолепия» в кривом зеркале воображения; его прототипы читают посвященные им страницы и не узнают собственные портреты (Там же: 367, 375); в конце романа мы узнаем, что книга Фирсова «Злоключения Мити Смурова»[17] увидела свет, и знакомимся с отрицательными рецензиями на нее.
У Вагинова в «Козлиной песни» нет персонажа-писателя, который играл бы роль двойника «внешнего» автора, но зато сам автор то и дело прерывает повествование своими насмешливыми «междусловиями» и другими вторжениями в собственный текст, создавая эффект, который Шкловский называл «подчеркиванием рампы, установкой на условность искусства, педалированием его» (Шкловский 1929: 116). При этом статус автора по отношению к персонажам почти до конца романа остается не определенным. С одной стороны, он приглашает их на ужин, подсматривает за ними, подслушивает их разговоры, а с одним из главных героев – Неизвестным поэтом – дважды вступает в диалог, то есть сосуществует с ними в одной «реальности». С другой стороны, в тексте имеется немало намеков на то, что все эти встречи и беседы происходят лишь в воображении автора: после ужина гости «бледнеют и один за другим исчезают» (Вагинов 1991: 92); автор слышит разговор персонажей, который физически слышать не может (Там же: 45); он видит своих героев «стоящими в воздухе» (Там же: 145). Ближе к концу романа, в последнем «междусловии», автор описывает свою внешность. У него «остроконечная голова с глазами, полузакрытыми желтыми перепонками» и «уродливые от рождения руки: на правой руке три пальца, на левой – четыре» (Там же: 144). Иными словами, он больше похож не на человека, а на какого-то доисторического ящера или птицу, гостя из потусторонности, чье присутствие ощущают персонажи. Ответственность за его появление в романе возлагается на Неизвестного Поэта, который перед «туманным высоким трибуналом», в который входят Данте, Гоголь, Ювенал и Персий, признается: «… я породил автора <… > я растлил его душу и заменил смехом <… > Я позволил автору погрузить в море жизни нас и над нами посмеяться» (Там же: 75). О. В. Шиндина полагает, что в Неизвестном Поэте следует видеть «персонификацию» автора (Шиндина 1993: 223), но возможна и противоположная интерпретация: «печальный трехпалый автор» есть «посмертная» ипостась Неизвестного Поэта, который, по сюжету романа, теряет свой поэтический дар, превращается в гражданина Агафонова и затем пускает себе пулю в лоб. В конце романа вся описанная автором «реальность» приравнивается к театральному представлению, а романные персонажи – к актерам и актрисам, что меняет местами две параллельныe «реальности» романа и, как точно заметила Шиндина, вводит новый код для его повторного чтения (Там же: 227).






