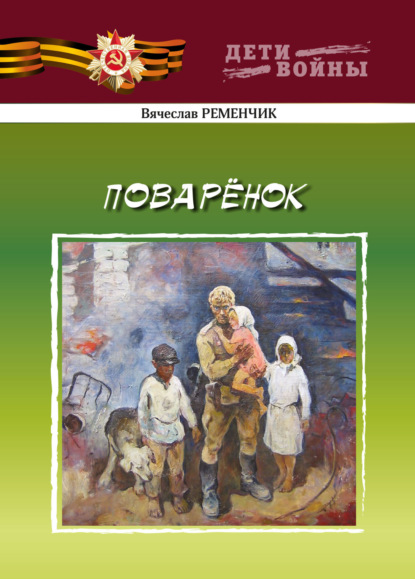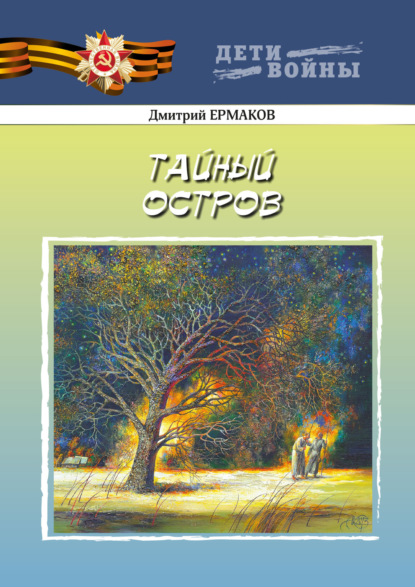Полная версия
Над окошком месяц
А до отпуска ещё двести восемьдесят пять компотов!
Первой не выдержала разлуки мама. Она приехала ко мне с тётей Надей. Вызвали на КПП, где мама долго целовала меня и плакала. А мне было стыдно перед дежурными курсантами, перед проходившими мимо офицерами. Дежурный офицер сказал, что мама с тётей Надей могут пройти в ленкомнату роты и там побыть со мной. Опять стыдно перед своими товарищами за маму и тётю, что так бедно они одеты. Это пример того, как неверна, лжива пословица: «Бедность – не порок». Бедность – большой порок, и придумана эта пословица богатыми, чтобы успокоить миллионы бедных. Бедный ограничен во всём, кроме мыслей. А мысли в этом положении приходят разные, в том числе и не совсем удобные для богатых.
Как мне мешала эта бедность! В раннем детстве я её не замечал. Штанишки с одной лямкой через плечо, выгоревшая на солнце ситцевая рубашонка, босые быстрые ноги меня вполне устраивали. И с любовью было просто: дёрнул за косичку, саданул, пробегая мимо, по спине кулаком, в ответ услыхал желанное: «Дурак!» – вот и вся любовь! Но я подрастал, росли и множились мои беды. Мне уже пятнадцать, а может, и все шестнадцать, я недурён лицом и статью, не глупец, уже ловлю на себе взгляды ровесниц, но мои разбитые вдрызг башмаки, потёртые до дыр штаны напоминают всё чаще и чаще, что я не сказочный принц и никакой не романтический герой, что робкий поцелуй сорвёшь не ты, а тот, у кого новые кирзачи с отворотами, с заправлеными в них шикарными «магазинными» брюками-клёш. Классическая красавица, царственно величавая Лиля Казанцева, изящная Тамара Седых, голубоглазая Нина Михалёва, шустрая, с острыми и быстрыми глазами соболя Лида Иванова, с загадочной милой улыбкой Капа Кокорина, застенчивая Ира Петрова, Катя Цуканова – все мне были милы, и все были далеки от меня…
Старшина роты порадовал маму моими успехами в учёбе и огорчил (во всяком случае, мама сделала такой вид, к этому она была, думаю, привычной ещё со школьных родительских собраний) сообщением о моей непоседливости, склонности к нарушению дисциплины. Для мамы было бы новостью услышать противоположное, и всё же она попросила меня быть послушным и разумным.
Сущим адом для нас было стоять на посту в сорокаградусный мороз, когда всё трещало и скрипело. Тулуп из овчины до пят защищал от холода нисколько не лучше, чем цыгана рыболовная сеть. Ноги в валенках начинали мёрзнуть с пальцев, и чтобы спасти их от обморожения приходилось вытягивать помаленьку в менее настывшее место. К концу смены мы стояли почти босиком на снегу, высунув ноги на край голенища. К этому ещё надо добавить боязнь прозевать вездесущих коварных диверсантов, которые спят и видят, как бы уничтожить охраняемый тобой важный объект – склад с квашеной капустой и солёными огурцами. Кое-кто под разным предлогом старался избежать участи мёрзлого часового, но это было опасным занятием, ибо вызывало презрение у коллектива. Боязнь оказаться неправильно понятым, заставила меня однажды, в самые суровые морозы, отказаться от санчасти, а у меня была температура под сорок, и я шёл на пост, практически ничего не воспринимая, ничего не видя.
В Иркутске было много институтов, техникумов, училищ, и наше командование, политотдел связывали дружбой курсантов и студентов. Наша рота «дружила» с мединститутом. Мы их приглашали на вечера и праздники, а они нас. До свадеб дело не доходило, наверное, потому, что очень уж молоды мы были. И по выпуску никто почти не женился.
С выпивками было очень строго. По-моему, нужды выпить ни у кого и не было. Иногда выпивали те из нас, кто был постарше, кто уже поработал на заводе или стройке. Но таких было единицы. Был у нас один печальный случай, когда курсант с горя, что его оставила любимая девушка, выпил стакан водки, уснул где-то на лавочке и опоздал из увольнения. Его судил трибунал и отправил в тюрьму. Но, к счастью, через несколько месяцев, вышел закон, не так строго судивший самовольщиков. Курсант вернулся в училище. Вообще, какой-то парадокс получается с этой выпивкой: курсанту и капли нельзя, а с получением офицерских пагон вчерашний курсант имеет право свободно, не боясь наказаний, посещать рестораны, пить водку, играть в карты.
Вот и первый отпуск. Как мы его ждали! Особенно тревожными были последние дни. Трещат по ночам пружины кроватей, не могут уснуть курсанты. Каждый думает, как его встретят родные, близкие, друзья, любимые. А тут ещё экзамены не все сданы. Самый страшный экзамен по физической подготовке. Тут никакая шпаргалка не поможет. Так оно и получилось. Троих сбросил в пропасть неудач упрямый деревянный «конь». Один из таких неудачников рассказывал потом:
– Сижу я в курилке, такая тоска! Вы все поразъехались, в казарме пусто. Закурил. Смотрю на эту сволочь, на «коня», и дико его ненавижу. Бросил окурок, разбежался и перепрыгнул. А что толку? Паровоз-то ушёл!
И вот настал тот день, когда я на попутной машине приехал домой. Я иду по улице с маленьким чемоданчиком в руках, в нём простенькие подарки. Улица почему-то сузилась и укоротилась, и мост совсем не мост через реку, а дощатый мосточек через мутный ручеёк. На этом мосточке мы с сестрой Лизой, как фокусники, быстро менялись одеждой: кто бежал из нас в школу, тот надевал трофейный немецкий китель, а кто домой – старенькую стёганую телогрейку. Всё хорошо было до той поры, пока мы учились в разные смены. Потом почему-то, не спросив нашего с Лизой согласия, нас свели в одну смену, и этим самым чуть не лишили Лизу занятий в школе. Получилась такая история. Утром, быстро собрав книги, я выбрал момент и, не замеченный, выскочил за дверь с припрятанным под рубашкой фашистским кителем. Лиза наотрез отказалась идти в школу в телогрейке даже с таким родительским наказом, что разденет меня в школе и вдобавок надерёт уши. И тут выяснилось, что она почти взрослая девушка, и ходить ей в огромных отцовских кирзовых сапогах и немецком мундире вроде бы и непристойно. После школы я получил хорошую головомойку, она была, конечно, лишней, потому что я и без того понял, что совершил большую подлость. Этот случай помог Лизе – ей купили кое-какие вещицы, а я остался полноправным хозяином трофейного мундира, ушитого в талии.
Купили после того, как меня отец отправил на иркутский базар с пятью мешками картошки. Отвёз меня наш бывший сосед Валентин Алексеев. Тот самый, которого убили браконьеры в лесу под Иркутском. Вместе с ним были жестоко расстреляны студенты охотоведческого факультета Иркутского сельскохозяйственного института. Об этом сначала я узнал из газеты, когда служил в Польше, а потом в письме мне подробности сообщила сестра Лиза.
Выгрузил Валентин меня с картошкой у прилавка и уехал. Проходит час, другой, третий, а картошку мою не покупают. У других берут, а у меня – нет. Ведёрка два продал – и всё. Сбросить бы цену, да отец наказал не спускать…
Закончился короткий весенний день, опустел базар, и на этом базаре у прилавка я один со своей картошкой. Мне тринадцать лет, мужик, а придумать ничего не могу!
Густые сумерки закрыли поле базара, холодает.
Подошёл сторож. Спросил, что да как. Подумал и предложил перетаскать мешки с картошкой к нему в сторожку – иначе хана ей, помёрзнет. Перенесли. Напоил чаем. Уступил местечко для сна у печки. Утром помог доволочь мешки до прилавка. Не помню, почему, но картошку я продал в течение короткого времени, наверное, сбросил цену.
Самое печальное в этой истории: я же ведь никак не отблагодарил этого доброго человека. Может быть, даже и спасибо не сказал! Обрадовался свалившейся на меня удаче и укатил на попутке домой!
В этом ручейке я когда-то купался с пацанами до одури, до синевы в губах. Эту мутную воду таскал для полива огорода десятками вёдер. После этих вёдер руки, как у обезьяны, до земли, и только к утру укорачивались до своих размеров, чтобы днём опять удлиниться.
Натаскавшись воды, встретив корову и телёнка, незаметно присосавшегося к материнскому соску, накопав картошки, сидим с сестрёнкой (ей года два-три) у костра. На костре варится картошка. Остро отточенной палочкой пробую готовность картошки, в глаза мне заглядывает сестра и тянет руки. Дую на картошку, перекидывая с руки на руку, а потом подаю девочке.
Приходят при полной уже темноте уставшие родители, гремят косами, граблями. Мама идёт доить корову, наполовину опустошённую телёнком, при свете керосиновой лампы ужинаем и идём спать. Я недолго слушаю сверчка за печкой, меня побеждает крепкий, плотный, как сама летняя ночь, сон… Так было совсем недавно.
Вхожу в избу. В ней никого нет, а дверь, как и при мне, не запирается на замок. Закрывай, не закрывай, всё равно воровать нечего. Удивляют размеры избы: потолок у самой головы, прихожая – два шага вдоль, два шага поперёк.
Слышу торопливые детские шаги, переступив порог, распахнув во всю ширь глазёнки, дети, сбившись в кучку, смотрят на меня. Расталкивая их, вбегает мама. Она обнимает, целует меня и плачет, что-то приговаривая…
Дети сбегали и сказали отцу, что я уже дома. Пришёл. Закрывает неторопливо калитку, повернулся ко мне спиной. Во всю спину тёмная заплата. Штаны тоже в заплатах. Едва ли у него есть другие, во всяком случае, при мне их не было, как и у мамы выходного платья. Откуда этому быть, если я пересылал им на соль и керосин копейки из своей курсантской стипендии! Колхоз же регулярно награждал отца грамотами за ударный социалистический труд.
Трудное было время.
Боль за страдания родителей сжигала моё сердце, я понимал, что их счастье в нас, в детях, и старался не огорчать, насколько это возможно. Уже после училища, когда я был далеко от родных, пришли на ум слова, попытался их изложить в стихотворной форме:
Вся жизнь в поту, крови, слезах,Такими только помню вас…Одни заботы у простых людей:Забота прокормить детей,Забота дать им счастье.В жару забота и в ненастье.Забота вечером и днём,Забота с хлебом и огнём.И всюду вечные несчастья…Тяжёлый век на ваши плечи лёг,И другой жизни час далёкДля вас, простые мученики света.Какого можете дождаться вы ответаОт жизни щедрой не для вас?Я не считаю это поэзией, просто выплеснулось из глубин души то, что накопилось за двадцать лет моей жизни.
Остальное – ещё мрачней.
Отец неуклюже обнял меня. Небритые щёки колючи. Плечи и спина сутулы и костлявы. Ладони мозолисты и огромны, в тёмных пятнах смолы… Щёки впалые, у рта глубокие морщины. Старик в сорок четыре года…
Забежала молодая соседка не то за солью, не то за спичками, зыркнула по мне чёрными раскосыми глазищами и убежала.
– Надо ей эти спички, – не поверил ей отец, – бабское любопытство.
Я спросил, куда уехали прежние наши соседи, Макаревичи.
– Нинка забрала мать в Иркутск, Васька опять сидит, – ответила мама из кухни-закутка, где она уже гремела посудой.
– А что слышно о Володьке?
– Вроде бы погиб где-то на Севере. Но толком никто не знает.
Володька был моим старшим другом. Разница в возрасте у нас была лет пять, большая разница, если тебе восемь или даже десять лет. У меня не было старшего брата, который бы защищал меня, был бы моей опорой, часто это делал Володька.
Братика моего Мишу я знаю только по рассказам мамы. Он умер через две недели после моего рождения, на Покрова, как говорила мама, а было ему около трёх лет. Скарлатина. Лекарь посмотрел на него, лежащего на телеге, и сказал маме, что поздно, что уже ничего сделать нельзя. На половине дороги домой он умер на руках у мамы. Мама часто вспоминала его и говорила, что это был очень смышлёный мальчик. Осталась фотография, где он стоит босой, в коротких штанишках с одной лямкой через плечо, прижавшись к маминой ноге.
Это в книгах да кино врачи делают чудеса, наяву же они часто равнодушны и бессильны. Да и диагноз под большим вопросом. Будь эта скарлатина на самом деле, то нас бы с сестрёнкой она едва ли выпустила из своих когтей, ведь и понятия тогда не было у наших родителей, как защищаться от этой напасти. Скорей всего мальчишку задушила элементарная ангина, от которой можно и нужно было спасти. Если же прав был сельский эскулап, в чём я очень сомневаюсь, то остаётся благодарить Бога за дарованную нам с Лизой жизнь.
Когда я вырос, то мне рассказали, как тогда плакала моя бабушка Мартося и приговаривала: «Лучше бы гэтот умер». Я на неё не в обиде, а всё чаще кажется, что так было бы и лучше. Сравнение с братом не в мою пользу. Он был смышлёный, общительный и щедрый мальчик. У него все были близкими друзьями: и дядя Тимофей, дававший подержать свою трубку, и неродной дед Яков, отвечавший на бесчисленные вопросы внука около ямы, где тлел уголь для кузни. Умирающий от удушья, он отломал и дал своей сестрёнке половину бублика, купленного ему по случаю болезни. Я же был стеснительным ребёнком, собственно, таким оставался долгие годы; друзей у меня – раз-два и обчёлся, и стремления иметь их много не замечаю за собой и сейчас. Лучшее для меня – одиночество. Я полон противоречий, часто испытываю неудовлетворённость в своих делах, иногда хочется всё оставить и оказаться в какой-нибудь «непролазной глуши», но и там едва ли надолго я задержался бы. Да видно не избежать было нам с братом своей судьбы, не изменить.
С Володькой всегда было интересно, и я следовал за ним, как на верёвочке. Он почему-то не ходил в школу, и всё равно выгодно отличался от других своих сверстников. Был выдумщик и хулиган.
Как-то я сидел рядом с ним и наблюдал за его работой, она была не из простых – он брил старую шубу. Делал всё, как надо: намыливал помазком шерсть и брил настоящей бритвой.
– Зачем ты это делаешь? – спросил я его.
– Хромачи шить будем, – ответил он вполне серьёзно.
Его старший брат, Васька, в то время, когда не сидел в тюрьме, что было редкостью, делал всё, чтобы были деньги. Не подумайте, что он вкалывал в колхозе или на производстве, зарабатывая тяжким трудом уважение и копейки, – трудовой энтузиазм отсутствовал в нём изначально, генетически. Апофеоз коллективного социалистического труда во славу Родины, на благо народа, не касался его ну никаким боком. Он здорово рисовал. Русалки на пруду у него получались как живые, да и лебеди тоже. По бедности эти картины из наших земляков никто не покупал, Васька сбывал их в Иркутске на барахолке зажиточным горожанам. Там же он продавал модникам отличной работы «хромачи». Вид их был сногсшибательный! Только сапог этих хватало на один выход, да и то, если не было дождя. В дождь подмётки из картона сразу же переставали быть подмётками, и из расползшейся ветхой шкуры выглядывали пальцы с грубыми жёлтыми ногтями.… Ваську за это били, но не смертным боем, как его отца, тоже Василия. Старшего Василия били за кражу буряты. Они проломили ему череп безменом. Выжил, а вмятина с доброе яйцо осталась на всю оставшуюся жизнь. Недолгую. Умер он от чахотки. Я помню его хорошо. Как-то он спросил меня, зачем я хожу в школу, и сказал, что напрасно это делаю, всё равно буду задрипанным колхозником, как и мой отец. «Министром ты не будешь никогда», – сказал он, и оказался прав в своём конечном выводе.
Так вот, сидим мы с Володькой, а в дом влетает цыганка. Глазами по углам, по столу, по полкам, и с ходу:
– Красавчики, а дайте, вам погадаю! Скажу, что было, что будет, чем сердце успокоится.
– Что было – знаю, что будет – узнаю, – сказал Володька. – А тебе подскажу, где можешь хорошо поживиться. Третий дом от нас, там живут Чубыкины. Они сегодня быка закололи, у них болеет старший сын Федька, у дочери, Лидки, в городе спёрли чемодан, и сам Чубыкин на ладан дышит.
Цыганку, как волной смыло. Минуя все дворы и избы, она вбежала во двор Чубыкиных. Мы с Володькой долго ждали её, сидя на завалинке. Наконец, согнувшись под тяжестью поклажи на спине, показалась она, оглянулась по сторонам и помчалась прочь. Самого младшего Чубыкина, Кольку, мальчишку с огромными лошадиными зубами, мы заметили у калитки и позвали к себе, спросили, что у них делала цыганка?
– Всю правду сказала, – взахлёб отвечал нам Колька, клацнув зубами. – Она вошла и сразу же сказала: «У вас бедой в доме пахнет. Я помогу вам!» Бросила карты и сказала, что у нас кто-то на букву «Фэ» тяжело больной, у женщины, сказала, украли одёжу. Это у Лидки. А «Фэ» – это же наш Федька! Он же ранетый у нас! Потом они с мамкой жгли какие-то волосья, чтобы выгнать беду из избы. Вот!
– Что-нибудь ей дали за это? – задал нелепый вопрос Володька, потому что и без ответа было видно, как щедро наградила гадалку Чубычиха.
– Мамка ей целую ногу отдала. Она сказала, что и завтра ещё придёт.
Был праздник, по-бурятски называли его кто Хурхарбан, кто Сурхарбан. На этом празднике были скачки на лошадях, спортивные состязания в беге, в прыжках в длину и высоту, естественно, национальная борьба, поднимание гирь… Конечно же, наше с Володькой место было там. По такому случаю он оделся в костюм брата – Васька был в отъезде со своими картонными сапогами и русалками, – залихватски сдвинул на затылок шляпу, тоже Васькину, в руки взял тросточку, понятно чью. И вот мы шествуем от группы к группе, от номера к номеру.
Бегуны на пять километров заканчивают забег. Впереди парень из русских. Он бледен, челюсти его плотно сжаты, у всех других, как у щук, выброшенных на берег, широко раскрыты черные пасти.
– Этот парень хитрый, – слышу я за спиной. – Он носовой платок в рот засунул, чтобы дыхалки хватило.
И, правда, этот парень, прибежав первым, выдернул изо рта тряпку. Вот теперь я думаю, не заткни он себе рот, так на круг бы обошёл всех. Но и так здорово!
Проходя мимо соревнующихся в прыжках в высоту, Володька разбежался коротко и перемахнул через планку, как был: в костюме, шляпе и с тросточкой в руках. А эту высоту никто не мог взять даже в одних подштанниках. Ответственный за этот участок бросился со всех ног за Володькой, убеждая его, что без шляпы и тросточки он займёт первое место и получит приз. Володька на это и ухом не повёл.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.