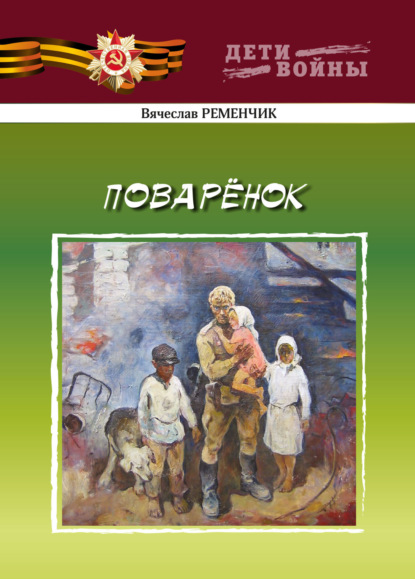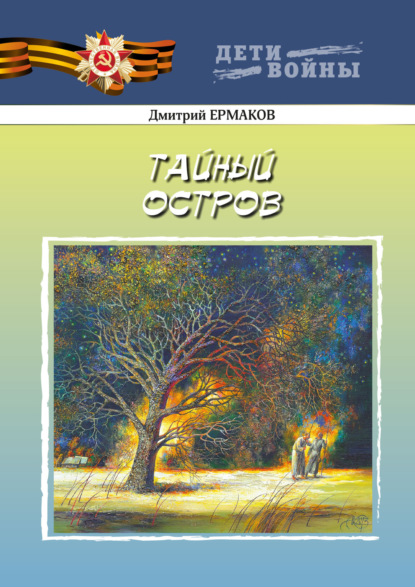Полная версия
Над окошком месяц
Пошёл я в школу в неполные восемь лет. Солнечным сентябрьским днём побежал, конечно же, как и все мои сверстники, босиком туда, где всё таинственно и интересно. Ранняя осенняя пора в Сибири – прекрасное время. Все деревья в жёлтых, ярко-оранжевых, красных цветах, всё горит-переливается. Воздух тих и кристально прозрачен, дышишь и не надышишься. Голоса слышны далеко, они тоже окрашены всеми диапазонами звучания. И учиться интересно, и в школу спешу поутру с лёгким, радостным чувством.
«Наука» давалась мне легко, очевидно, потому, что я уже кое-чему научился у сестры, да и интересно было открывать для себя каждый раз что-то новое. Одно не устраивало мою бедную первую учительницу Сказальскую Валентину Владимировну – я держал карандаш в левой руке, привык к этому настолько, что переучивать меня было если не бесполезно, то весьма трудно, это уж точно. С её молчаливого согласия, появившегося не вдруг и не сразу, я и теперь пишу левой. Да и откуда мне быть правшой, если оба мои деда левши! Нет, не только этим я был известен классу и, ещё раз скажу, бедной моей учительнице. Пусть простит она меня за сорванные уроки, за непослушание, непоседливость… Я не был злостным нарушителем дисциплины, но иногда вдруг во мне просыпалось такое неуёмное желание рассмешить класс, что никакие меры на меня не действовали. Была даже «тройка» за поведение, чего до меня не знала школа с момента её основания. Почему я так выпендривался, только повзрослев, понял: мне крайне необходимо было привлечь к себе внимание сестрёнок из блокадного Ленинграда – Иры и Тани Балиных. Их мама была врачом в нашей больнице, а девочки-погодки учились со мной. Ира, тихая, светленькая девочка, сидела со мной за одной партой, и чтобы мои друзья-забияки не дразнили нас постыдными «жених и невеста», я изредка, чтобы все видели, как я далёк от справедливых подозрений, подёргивал её за косичку и в то же время проклинал себя за такую подлость.
Таня, Татка, как её все звали, была полной противоположностью сестрёнки. Она была кареглазая, чёрные волосы были всегда взъерошены, пуговицы у пальтишка вырваны с мясом, а где был хлястик, зияли две большие дырки, оттуда торчала клоками вата. Глаза её, как две огромные сливы, влажно блестели и выдавали её постоянное желание совершить что-то необычное. От неё можно было всего ожидать: и подножки в самом неподходящем месте, и удара по голове тяжёлой сумкой с чернильницей-непроливашкой, перестающей быть в этот момент непроливашкой.
По-видимому, мне очень хотелось им тогда понравиться. Но закончилась блокада, и Балины уехали в свой город, с тех пор я ничего о них не знаю. Просто интересно, что с этой Татки получилось? Из этого бесёнка всё могло выйти. У Ирины, уверен, всё должно быть хорошо. Во всяком случае, мне так хочется.
В школу ходили в любой мороз, и даже перескочивший сорокаградусную шкалу, и в близкий к пятидесяти. Причина здесь может быть и в том, что термометров не было ни у кого, и люди говорили: сегодня холодно (это около сорока градусов), сегодня страшно холодно, дым столбами стоит (это за сорок), невозможно холодно, топор от удара по мёрзлой чурке разлетелся на куски (около или за пятьдесят). Не пускали малышню ни в школу, ни на речку покататься на салазках в поющие и стонущие метели. «Не хватало ещё, чтобы унесло тебя куда-то да завалило снегом, – говорили старшие, – в каком тогда сугробе тебя искать?» В классах было так холодно, что сидели одетые, в рукавицах и шапках, писали карандашами, чернила замерзали в ледышки.
Вспоминается Новый 1944-й, мой первый учебный год. Ёлка в школе. Идёт представление. Все одеты в самое лучшее, самое тёплое. Мы знаем, что после праздничного концерта всем будут давать по кусочку коврижки, потому и терпеливо мёрзнем в холодном зале. Нас развлекают девочки в белых марлевых платьицах, они изображают белых лебедей, но очень уж синие они от холода эти лебеди.
Маруська Толстикова, моя соседка, тоже в марлевом платье, только ещё с деревянным кинжалом, спела песенку о коварстве и любви с такими словами:
Почему ты не пришёл, когда я велела,До двенадцати часов лампочка горела?При этом она смешно прыгала со своим страшным деревянным кинжалом около «изменщика» с приклеенными криво огромными чёрными усами.
Появились в нашем селе чужие люди, которых называли предателями. Они были под присмотром милиции, и, пожалуй, никто из местных не знал, за что они сосланы, может, потому и относились к ним, как ко всем остальным, без ненависти и презрения. К тому ж Сибирь и без предателей была полна людей с неясным прошлым.
Да и я там не должен был родиться, а где-нибудь в Гродно, Могилёве или на Украине. Оттуда приехали мои деды, а отец с мамой родились уже в Сибири. Их историю я просто обязан поведать.
Они жили в разных деревнях, стоящих друг от друга в трёх вёрстах. Отец родился в Толстовке, там обосновались переселенцы по столыпинской реформе из Могилёвщины, а мама из Тургеневки, там осели Гродненцы и Брестчане.
Воду брали из одной проруби. Кстати, воду этого источника, говорят, признали уникальной, скоро будут продавать в бутылках. И вот однажды там встретились пятнадцатилетняя Ганна, по метрике – Она, и шестнадцатилетний Яков. Ганна (Она) уронила в прорубь ведро, а Яков вынул его, дал ей свои рукавицы согреть окоченевшие руки. Через год поженились. За долгую совместную жизнь народили детей – половина сероглазых блондинов – в отца, половина чернявых, кареглазых – в мать.
Отец хлебнул горя сполна. Вскоре, после трагической гибели его отца (случайный выстрел), мать ввела в дом примака, который был младше её лет на десять, а то и более. До того примак ходил по деревням, гнал дёготь, жёг уголь, плёл короба, продавал это мужикам – тем и жил. Войдя в дом к Наталке, которая в нём души не чаяла и всё боялась, чтобы не покинул он её (обычная беда и забота женщин, прикормивших юнцов), примак забросил своё прежнее занятие и усиленно принялся проматывать крепкое недавно хозяйство. Активной помощницей ему в этом неблагородном занятии была и сама хозяйка. Скоро от хозяйства остались рожки да ножки. Но на этом не остановился примак. Он стал проявлять чудеса садизма над детьми, и отцу моему грозила смерть. Знали, конечно, об этом и братья покойного Степана, мяли бока не раз примаку, но исправить его было невозможно. И вот однажды, ещё до рассвета, в дом к Наталке пришёл дед моего отца и забрал его к себе, в своё большое семейство. Сделал он это после приснившегося ему сна, в котором покойный сын Степан умолял забрать мальчишку к себе, иначе погубят его эти ироды.
Бабушки были полной противоположностью одна другой. Высокая, худая, прямая, немногословная – мамина мама – баба Мартося, девичья её фамилия Гуревская. Она недолюбливала бабу Наталку и называла её мужичкой. У бабы Мартоси – чистота и порядок, у бабы Наталки – неимоверный кавардак. Но зато какая у неё подвижность! Кроме всего, Наталка врачевала во всей округе заговорами да травами. Это у неё получалось превосходно. Я сам видел, как однажды к ней прибежала молодица, принесла не плачущего, а разрывающегося на части от крика грудного ребёнка. Со слезами обречённо отдала его Наталке, а через минуту он уже спал, сладко почмокивая губами.
Конкурентов у бабы Наталки, практически, не было. Была ещё одна в деревне, которой казалось, что тоже может врачевать, но её всерьёз не принимали. Звали её, как и всех баб, по имени мужа – Пануреиха. Ростом она была под два метра, со свирепым выражением лица и огромными разлапистыми руками и ногами.
Как-то, когда не было в деревне главного врачевателя, Наталки, в деревню приехал на двухколёсной телеге – торге – молодой бурят, у него что-то со спиной стряслось. Принимала его Пануреиха. Узнав, в чём его беда, коротко рявкнула, показав на порог: «Лягай, бусурман!» Бурят интуитивно подчинился. «Мордой до горы!» – уточнила позу Пануреиха. Опять непонятно, каким образом бурят правильно понял команду. Взяв топор, поблизости стоявший, Пануреиха выдала очередную команду дрожащему уже от могильного ужаса буряту: «Путай!», что в переводе значило: «Спрашивай». Бурят этого, почти иностранного, слова не знал и на своё горе решил уточнить. «Куво, баушка, путай?» – заискивающе переспросил он. В ответ Пануреиха, вскинув к чёрному задымлённому потолку топор, зарычала, как лев в пустыне: «Путай, каб Пярун табе забив!»
Больного бурята, забывшего все свои болезни, как ветром унесло. Он убежал в свой улус напрямик через лес, оставив у ворот коня с торгой.
Трудно было ему, привычному к безобидным глухим звукам бубна и пляскам шамана у костра, понять языческий ритуал страшной в своей решимости старухи в чёрном и с топором в руках. Будь на ней хотя бы одна яркая ленточка, а в руках балалайка или дудочка, тогда бы всё проходило иначе.
К вечеру пришёл кривоногий старик с редкой сивой бородёнкой, не сказав никому слова, отвязал от изгороди коня, сел в торгу и уехал, посвистывая не смазанными колёсами.
Как-то и Наталка так занедужила, что без больницы ей было не обойтись. Через три дня её оттуда выписали. Врачи не могли поступить иначе, потому что затронута была их профессиональная честь.
Прознав о новом местонахождении Наталки, пуще прежнего устремились больные, особенно мамаши с детьми, к ней в палату. Врачи были взбешены!
– Та не я их зову, яны сами идуть! – оправдывалась Наталка. – Вон и врачиха ваша, Вольга Мироновна, свого брыластого прино́сила!
У бабы Мартоси отец был офицером польской армии, ходил в сюртуке и галстуке, любил играть на скрипке. А у бабы Натальи кто был отец, не знаю, известно, что в Киеве она работала служанкой у своего дяди-прокурора, знать, не последний человек был и её отец. От дяди-прокурора, очевидно, переняла Наталка такие качества, как честность и справедливость. В то время судьи и прокуроры в большинстве были таковыми. Она была чрезвычайно бойкой на язык, прозвища, сказанные ею мимоходом, приклеивались раз и навсегда. Жила она бедно и никому никогда не завидовала. От примака остались два сына, а сам он погиб на войне в панфиловской дивизии под Москвой.
Мой дед, по отцу Степан, был страстный охотник, это его и погубило в тридцать три года. До этого был ранен в ногу на германской войне, побывал в лапах медведя, еле выжил, и тут случайный выстрел в живот. Был грамотный для той поры настолько, что ему предлагали место писаря в администрации Иркутска.
Дед Трофим, отец мамы, тоже был грамотный, но он не был, к сожалению, охотником, а целиком предан столярному и плотницкому делу. Ветряк до сих пор стоит на пригорке Тургеневки, как памятник деду, сработанный его же руками. Когда-то, при царе ещё, был моряком. Его форму, хранимую бабой Мартосей, как зеницу ока, во время гражданской войны забрали белые, может быть, и красные; мыкались они по Сибири долго, наседая поочерёдно друг на друга.
Белые хотели расстрелять деда Трофима с его отчимом за то, что они подобрали в болотах Булги телегу из обоза, поспешно брошенного белыми при отступлении. Если бы не моя мама, тогда ей было лет девять, то расстреляли бы точно. Мама упала в ноги офицеру, обхватила их, и со слезами стала просить «не убиваты тату и дида». Офицер пощадил отца, а в старика выстрелил, но промахнулся, и только вырвала пуля клок бороды, а сама застряла в лиственнице. Эта лиственница в моём детстве ещё стояла в огороде деда, и я видел на её теле уже затянувшуюся смолой рану от той пули.
Вообще-то Сибирь не ко всем была благосклонна, хотя туда решились приехать не слабые духом. В первую же зиму после переселения, крестов на пригорке наставили столько, что не дай Бог. Умирали слабые и старики. Неимоверные морозы, какие и представить невозможно, встретили их в первый же год. А одежонка какая была! Зипуны да лапти. А работа! Такой и каторжане не испытывали! Вручную в снег и мороз валить вековые лиственницы да корчевать пни! Выжили… чтобы кому-то быть расстрелянным в лихие тридцатые под Пивоварихой, кому-то быть убитым в нескончаемых войнах.
Мы ждали отца с войны долгих пять лет, надеялись, что с его приходом забудем, что такое голод и холод. Только так не получилось. Нам стало жить труднее: задавили налогами. Всякими правдами и неправдами доживали до весны. До щавеля, до крапивы и лебеды… Щавель собирали на бурятских полях, буряты гонялись за нами на злых косматых лошадях и стегали плетями.
Как только освобождались от снега пригорки пашен, детвора, и свободные от работы девки, и бабы устремлялись туда, ибо там можно было поживиться оставшимися с прошлого года колосками. Это почему-то преследовалось властями. Там, тоже на лошадях, но уже наши, русские, и тоже с плетями, гонялись за «преступниками», отнимали у них собранные колоски и втаптывали их в грязь. Этого я не могу понять и теперь.
Особенно голодным был сорок седьмой год. Были дни, когда мы не ели совсем. Мама, кормящая грудью мою сестрёнку, падала в голодном обмороке, отец был похож на скелет, обтянутый огрубевшей кожей; мне тоже есть очень хотелось, однако я оставался самим собой – непоседливым и неунывающим. У бабушки Натальи, как и у многих, не было избытка продуктов, но что-то всегда было, и мама, в который раз отринув стыд, посылала меня с мисочкой к ней. Бабушка никогда не отказывала, и я бежал домой с лепёшкой или горсткой муки, из которой варили похлёбку.
В эти тяжёлые дни, когда совсем и всем стало невмочь, колхоз собрал какие-то деньжата, и три мужика, помоложе и порасторопней, поехали в богатые хлебом края. Все ждали их с нетерпением. Долгим было их путешествие, ещё дольше казалось оно при голодном брюхе. Вернулись через две недели, привезли полтора мешка кукурузной муки – по мисочке на двор…
Жил у нас в это время мамин родственник из её деревни, он учился в школе механизации, и был по сравнению с нами весьма зажиточным человеком. У него всегда был хлеб, сало. К его приходу после занятий мама варила ему суп, и он его по-крестьянски, не торопясь, съедал в молчаливом одиночестве. Потом, как что-то его укусило, он налил мне однажды полтарелки этого супа, я отчаянно и стыдливо отказывался, но он настаивал, как было бы это делом его чести, и мама кивком разрешила. Я ел этот суп, и он застревал у меня в глотке, потому что рядом стояли и заглядывали мне в глаза голодные сестрёнка и братишки. Я стал избегать этого «благотворительного» обеда, а однажды, увидев заплаканное лицо мамы и узнав причину её слёз, раз и навсегда отказался от унизительной подачки богатого родственника. Причина слёз была проста. Маленькая сестрёнка, увидев хлеб, который мама не успела спрятать от её глаз, разревелась. Мама отрезала ей скибочку от большой буханки и нарушила заметки, что сделал её изобретательный родственник. Сев за свой обед, он тут же распознал «кражу» и устроил маме разнос.
В «лихие девяностые», когда пенсия полковника была тридцать долларов, зарплата – пятьдесят, моя жена и её мама, не испытавшие голода, были в ужасе от недостатка привычных продуктов. Я же, вооружённый опытом голодного существования, был спокоен: на хлеб и соль этих денег хватало.
Отец ходил, как тень. Голод и непомерный труд вымотали его. Я помогал, чем мог. Вместе мы заготовили и перевезли лес, срубили сенцы и баньку. После работы бежали на солонцы или к водопою подстерегать диких коз, иногда нам везло, но чаще понапрасну кормили злых, как собак, комаров.
Ружья у отца были старенькие, плохонькие, он менял-выменивал их в надежде приобрести что-то стоящее, но, увы! Долгими зимними вечерами скрежетали мы пилами и напильниками, вытачивая недостающие детали к очередной своей надежде, чистили долго и кропотливо стволы от нагара и ржавчины, а результат всё тот же – никудышный.
Видя бесплодные попытки отца заиметь добротное ружьё, я дал себе зарок купить ему таковое с первой же получки. И сдержал слово. В первый же свой лейтенантский отпуск я привёз ему новенькое двуствольное бескурковое ружьё с хромированными стволами. Надо было видеть глаза отца, когда я вручал ему этот подарок. Алмазы! И здесь он был верен себе. «Ну, зачем ты тратился, лучше бы себе что купил. Я бы и своим обошёлся», – были его слова.
Нет уже отца, и ружьё опять вернулось ко мне. Храню его как память о нем, о тех днях и ночах, что провели мы с ним у костра в весеннем лесу, охотясь на глухаря, когда бродили по прозрачному осеннему лесу, высматривая белячков…
Светлая память о тебе, отец! Светлая память о тебе, моя милая добрая мама! Винюсь запоздало перед вами за все огорчения, что волей иль неволей принёс вам. Как жаль, что нет возможности повернуть время вспять и оказаться опять в том моём босоногом детстве.
В октябре прошлого года я, разбуженный ностальгическими чувствами, оказался в родных краях после долгого скитания по чужим городам и странам. Многое изменилось с тех пор, как я, мальчонка, в ситцевой выгоревшей рубашонке, с холщовой сумочкой в руках, покинул отчий дом и отправился искать своё счастье, свою долю.
Я не узнавал людей, не узнавал земли, на которой вырос. Высоченные бугры, собиравшие зимними вечерами многоголосую детвору, оказались всего лишь небольшими холмиками, не более того. Знаменитый Ленский тракт, который топтали ноженьки каторжан и искателей удачи на приисках Колымы и Бодайбо, заасфальтировали, а мы так любили, зацепившись за борт грузовика, рассыпать с шиком искры из-под коньков.
Избушку, в которой я родился и вырос, снесли, на её месте вырыт глубокий котлован. Соседи поведали, что строится удачливый предприниматель, но имени его они не знают.
«Что ж, – думал я, глядя сквозь пелену на сваленные в кучу брёвна избушки, – всему своё время. Ты сослужила добрую службу, была бедной, но приветливой, обогревала и давала приют каждому, кто стучался в твою дверь или промерзшее окно, а вот будут ли так же щедры к людям хоромы, что поднимутся на твоём месте?»
Курсанты-лейтенанты
С годами из памяти стирается многое, в основном то, что не тронуло глубоко твоей души, и яркими, броскими картинами стоят перед уставшими глазами важные для тебя события, ты отчётливо видишь лица, слышишь голоса, звуки. Ты снова участник и свидетель тех событий давнего, или не очень давнего, времени. Иногда не хотелось бы вспоминать что-то, а оно стоит тяжким укором и не покидает тебя ни на минуту.
Жаркое-жаркое лето военной поры. Дорожная мягкая пыль жжёт подошвы босых ног. Солнце выбелило мою головёнку так, что из тёмной, зимней, она превратилась в цвета соломы. Лицо, руки, ноги – тёмно-коричневые, как шоколад, вкуса которого я тогда ещё не знал, да и потом долго ещё не доводилось узнать его.
Улица – место моего постоянного пребывания. От восхода солнца до глубокой темноты я там. Улица, не конкретно та единственная наша улица, которая тянулась вдоль тракта, а вообще – пространство на земле, под небом. Необъятное пространство. В одном его направлении чернел могучий лес, в другом, так же бесконечном, – раскинулась рыжая холмистая степь. По этой степи, иногда заныривая в закраины наступающего леса, уползала на юг и север укатанная гравийная дорога. На юг – к Иркутску, самому большому городу Восточной Сибири, Прибайкалья. А на север – к великой судоходной реке Лене и её порту Качугу, несравнимо с Иркутском маленькому, истинно провинциальному сибирскому городишке. Моё село с единственной улицей оказалось, как раз посредине двух этих пунктов, называлось оно Покровка.
Этой дорогой уходили на войну мужики, этой дорогой они возвращались домой, кто цел и невредим, а кто израненный, искалеченный. По этой дороге, переполненные счастьем, гуляли те, кому повезло выжить в войне, кто дождался встречи. Серьёзные, полные достоинства, лица пожилых людей, светящиеся у подрастающей молоди, задорные, со следами выпирающей гордости за своего отца или брата, – виновника торжества, – у пацанвы. А если у пацана ещё какая-то необыкновенная подарочная вещица в виде блестящего складешка или губной гармошки, то тут уже лица самые разнообразные – гордые, завистливые, заискивающие.
Прогуливались большой толпой наши родственники: вернулся мой двоюродный дядя – Кузьма Климович, капитан, командир батальона. Он был прекрасен! Стройный, ладный, кареглазый; густые тёмные волосы волнами лежат на гордо вскинутой голове; грудь в орденах. Он приехал не один, а с женой, одесситкой. Само по себе не такое уж это событие – привезти жену, привозили и до него. Дело в другом. У моего дяди половина крови была чужой, его жены-одесситки. Она была медсестрой и отдала свою кровь израненному молодому красавцу-комбату. Видать, от большой любви у них нарождались дети только парами. Проблема была в том, что здоровьем детишки не отличались, наверное, была потеряна сопротивляемость организма из-за смешения родительской крови. Но бабушка Федосья, игнорируя лекарства и медицину в целом, взялась за дело истово. Лёгкая банька с веничком, крестьянская пища, – и дети пошли на поправку. Невестка уволокла, так говорила бабушка, Кузьму и четверых уже детей к себе в Одессу, и больше я их в Сибири не видел. По прошествии времени, я как-то спросил у отца, не слыхал ли он что-нибудь о наших одесситах: «Как же не слыхал, слыхал. Кузьма страдает от старых ран, а его сыновья-сорванцы всю Одессу в руках держат», – было мне ответом.
Второй дядя, Алексей Климович, пришёл зимой, как и мой отец, и гуляли они тогда долго и шумно, лихо носились на санях за водкой, кричали песни, разрывая на морозе меха гармошки.
Дядя стоил такой встречи…
В одном бою были убиты все офицеры; залёгшую в растерянности роту немцы расстреливали методично из всех видов стрелкового и артиллерийского оружия; и тогда дядя, будучи младшим командиром, поднял роту, и выбили они немцев из окопов, закрепились, обеспечили успех другим частям и подразделениям.
Об этом его поступке мало кто знал, и за что у него ордена, он рассказывал немногим.
Он единогласно был избран председателем колхоза, много сделал хорошего для людей, но, к сожалению, рано ушёл из жизни. Такая вот несправедливость.
С треском, грохотом и рёвом на трофейном мотоцикле, вдоль этой же улицы, носился геройский старшина, у которого, как ни у кого, даже у моего дяди комбата, к моему огорчению, не было столько наград. В таком красивом виде он пребывал не более трёх дней, а потом все узнали, что он никакой не старшина, а обыкновенный рядовой солдат погребальной команды, и из всех наград, которые были у него, ему принадлежит только одна-единственная – медаль «За победу над Германией».
Этой дорогой и я пытался когда-то убежать на фронт, но меня, уже по-солдатски перепоясанного ремнём, с деревянным ружьём за плечами перехватили на мосту, перешагнувшем через безымянную речушку на окраине нашего села. Мне тогда было лет пять или шесть, но был полон решимости бить фрицев.
Я подрастал, и всё чаще и чаще поглядывал на эту дорогу, смутно понимая, что и меня когда-то уведёт она в неведомые и невиданные края. Я готовил себя к этому.
Первая попытка вырваться на простор, не считая детской, оказалась тоже неудачной. Закончив семь классов, я уехал на попутке в Иркутск поступать в железнодорожный техникум, который назывался сокращённо – ШВТ (школа военных техников). Поступал я не потому, что очень уж хотелось прославить себя в железнодорожном деле, скажу больше, мне оно было абсолютно безразличным, и паровоз-то я видел только в кино да на картинках. А всё дело в том, что учащиеся этого заведения находились на полном государственном обеспечении, и это в то время было крайне важным для многих мальчишек и их родителей. Что ещё можно пожелать своему вечно голодному полураздетому ребёнку, кроме сытой и тёплой жизни! Конкурс был дикий! Прошли туда в основном те, у кого за спиной были крепкие силы влиятельных особ.
Мне было стыдно возвращаться в дом, в котором, кроме меня, у отца на шее сидело ещё четверо, и отец рад был избавиться от одного хотя бы рта… И вот такое получилось. Это было моё первое серьёзное поражение, к которому не был готов. Оговорюсь сразу, что я был и остаюсь, может быть, больше чем надо, тщеславным, оттого и упрямым, человеком. Стремление во что бы то ни стало добиться поставленной цели, всегда было для меня главным. Честными, разумеется, путями. А тут такой срыв!
Я шёл по улицам чужого неприветливого города, изучая вывески, и мир казался мне злым и несправедливым. Финансово-экономический техникум. Первый техникум, встретившийся на моём пути. Экзамены сданы успешно. Принят. Только радости от этого никакой. Смотрю на окружение, и мне становится не по себе. Одни девчонки! Да инвалиды ещё. И я пошёл искать чего-то дальше. Техникум физкультуры. Это не совсем то, чем я болел, однако и не человек в нарукавниках. Берут и здесь.
Домой возвращаюсь хоть и не на белом коне, а всё же и не на козе. И отец вроде бы смирился с участью вечного кормильца, и мама просит меня быть в этом хулиганском городе поосмотрительней, не дружить с плохими парнями, и друзья завидуют, а мне уже не хочется туда. Мучаясь, страдая, ходил я долго, не решаясь сказать об этом родителям. Время бежало быстро, оставались считанные дни, а я страдал и молчал. Когда совсем уж ничего не оставалось, я сказал маме, что не хочу ни в какой техникум, хочу после школы поступать в военное училище.