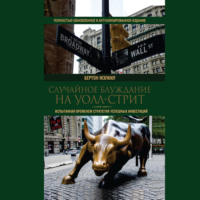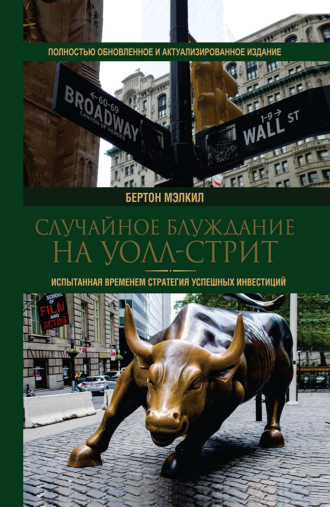
Полная версия
Случайное блуждание на Уолл-стрит. Испытанная временем стратегия успешных инвестиций
Джон Уильямс в своей работе «Теория инвестиционной стоимости» (The Theory of Investment Value) приводит формулу определения внутренней стоимости акций. Свою теорию Уильямс основал на доходах, поступающих в виде дивидендов. Всячески пытаясь усложнить простые вещи, он ввел в этот процесс концепцию дисконта, предполагающую взгляд на доход как бы с обратной стороны. Вместо того чтобы выяснять, сколько денег будет у вас в следующем году (скажем, 1,05 доллара, если вы вложили 1 доллар в сберегательный сертификат с 5 процентами доходности), вы рассматриваете будущие деньги с точки зрения того, сколько они будут стоить в то время (например, сегодняшний один доллар будет стоить в следующем году всего 95 центов, и именно эту сумму надо вложить под 5 процентов, чтобы на выходе получить доход, примерно эквивалентный одному доллару).
Уильямс действительно утверждал это всерьез. Далее он выдвигал тезис, что внутренняя ценность акции равна действительной (или дисконтной) сумме всех дивидендов, которые будут выплачены по ней в перспективе, и советовал инвесторам применять концепцию дисконта к будущим доходам. Мало кто мог во всем этом разобраться, но термин «дисконт» получил широкое распространение в среде инвесторов. Он стал еще более популярным с легкой руки профессора Йельского университета Ирвинга Фишера – уважаемого экономиста и инвестора.
Логика теории прочного фундамента вполне заслуживает уважения, а проиллюстрировать ее можно на примере обыкновенных акций. Теория утверждает, что стоимость акции должна основываться на сумме вознаграждений, которые фирма будет в состоянии выплатить по ней в перспективе в виде дивидендов. Вполне логично, что чем выше процент дивидендов и динамика их роста, тем больше стоимость акции. В соответствии с этим утверждением различия в динамике роста являются важным фактором для определения стоимости акций. Но тут есть один скользкий момент, который касается будущих ожиданий. Аналитики должны определить не только процент прироста на долгосрочную перспективу, но и то, какой будет продолжительность этой стадии роста. Если рынок проявляет чрезмерный оптимизм относительно того, на какой срок удастся сохранить тенденцию роста, то Уолл-стрит придерживается мнения, что дисконтный процесс продолжается постоянно и беспрерывно. Все дело в том, что теория прочного фундамента полагается на хитроумные предсказания о масштабах и продолжительности будущего роста. Таким образом, фундамент внутренней стоимости оказывается не столь уж надежным, как об этом заявляют.
Теория прочного фундамента оказала влияние не только на ученых-экономистов. Благодаря весьма влиятельной книге Бенджамина Грэма и Дэвида Додда «Анализ ценных бумаг» ее приверженцами стало целое поколение аналитиков Уолл-стрит. Надежный инвестиционный менеджмент, как утверждали практикующие аналитики, заключается лишь в том, чтобы покупать ценные бумаги, стоимость которых временно находится ниже их внутренней стоимости, и продавать их, если эти цены временно поднимаются выше этой границы. Все очень просто. Возможно, одним из самых прилежных учеников Грэма и Додда был Уоррен Баффет, которого прозвали «мудрецом из Омахи». Говорят, что, следуя рекомендациям теории прочного фундамента, Баффет установил вошедший в легенду рекорд доходности инвестиций.
Теория воздушных замков
Инвестиционная теория воздушных замков строится на психологических факторах. Джон Мейнард Кейнс, выдающийся экономист и преуспевающий инвестор, впервые изложил основы этой теории в 1936 году. По его мнению, профессиональные инвесторы предпочитают тратить свою энергию не на вычисление внутренней стоимости ценных бумаг, а на анализ вероятного будущего поведения широких масс вкладчиков и на то, как в периоды оптимизма их надежды превращаются в призрачные воздушные замки. Удачливый инвестор старается предугадать, какая ситуация может побудить публику начать строить воздушные замки, и приступает к скупке акций незадолго до этого момента.
По мнению Кейнса, следование теории прочного фундамента требует слишком большого труда и дает сомнительные результаты. Кейнс на практике применял все методы, которые проповедовал. В то время как большинство лондонских финансистов корпели с утра до вечера в переполненных офисах, он занимался биржевыми спекуляциями, не вставая с кровати, в течение получаса каждое утро. Такой «ленивый» метод инвестирования принес ему несколько миллионов фунтов стерлингов и позволил в 10 раз увеличить объем финансирования Королевского колледжа в Кембридже, в котором он преподавал.
В годы Великой депрессии, на которые приходится время расцвета славы Кейнса, большинство людей обращали внимание главным образом на его идеи, касавшиеся оживления экономики. В то время им было не до строительства воздушных замков. Тем не менее в своей книге «Общая теория занятости, процента и денег» Кейнс посвятил целую главу фондовому рынку и важности учета ожиданий инвесторов.
Говоря об акциях, Кейнс отмечал, что никто доподлинно не знает, какие факторы окажут влияние на перспективы их доходности и размер дивидендов. В результате, по словам Кейнса, большинство людей обеспокоены главным образом не тем, чтобы спрогнозировать размер дохода от инвестиций на длительную перспективу, а тем, чтобы предугадать краткосрочные изменения в их оценке незадолго до того, как это сделают остальные. Другими словами, Кейнс в изучении фондового рынка применял не финансовые, а психологические принципы. Он писал: «Неразумно платить 25 фунтов за акцию, даже если вы знаете, что ее реальная цена составляет 30 фунтов, но при этом предполагаете, что через три месяца рынок оценит ее всего в 20 фунтов».
Кейнс описал процесс игры на бирже, используя аналогию, вполне понятную для его земляков-англичан. Представьте себе, что вы присутствуете на конкурсе красоты, где нужно выбрать шесть самых красивых лиц из ста представленных фотографий. Главный приз будет вручен тому, чей выбор будет максимально совпадать с выбором большинства.
Умный игрок сразу же поймет, что его личные критерии красоты роли не играют. Лучше отобрать те лица, которые могут показаться красивыми большинству других игроков. Но такая логика имеет тенденцию развиваться наподобие снежного кома. Ведь другие игроки, скорее всего, будут придерживаться такой же линии поведения. Поэтому оптимальная стратегия заключается не в том, чтобы отобрать лица, которые другие игроки могут счесть самыми красивыми, а в том, чтобы предсказать, каким будет общее мнение относительно того, каким будет общее мнение, и так далее до бесконечности. Такие вот вещи творятся на британских конкурсах красоты.
Аналогия с этим конкурсом представляет собой доведенную до крайней точки теорию воздушных замков относительно определения стоимости акций. Акция оценивается покупателем в определенную сумму денег, поскольку он предполагает продать ее кому-то другому по более высокой цене. Таким образом, цена акции как бы сама тянет себя вверх. Новый покупатель, в свою очередь, ожидает, что сможет перепродать ее еще дороже.
Предполагается, что в мире каждую минуту рождается очередной дурак. Он-то и будет претендовать на покупку у вас акций по более высокой цене. Любая цена считается приемлемой при условии, что найдется кто-то, согласный заплатить еще больше. Во всем этом нет никакого внутреннего смысла, здесь присутствует только психология масс. Все, что требуется от умного вкладчика, – это вступить в игру на максимально более ранней стадии. В обиходе эту теорию называют также теорией «последнего дурака». Нет ничего страшного в том, чтобы приобрести акцию за тройную цену, если позднее удастся найти наивного покупателя, который заплатит за нее в пять раз больше, чем она стоит.
У теории воздушных замков имеется немало сторонников как среди практиков, так и среди теоретиков. Роберт Шиллер в своей широко известной книге «Иррациональный оптимизм» пишет, что мания, охватившая покупателей в конце 1990-х годов по поводу акций интернет-компаний и компаний, работающих в сфере высоких технологий, высокотехнологичных то варов и услуг, может быть объяснима только исходя из психологии масс. На экономических факультетах университетов и в бизнес-школах в начале 2000-х годов самыми популярными темами исследований были поведенческие теории фондового рынка. Психолог Даниел Канеман стал лауреатом Нобелевской премии 2002 года в области экономики за основополагающий вклад в поведенческую экономику. Ранее первенство в этой отрасли принадлежало Оскару Моргенштерну, который утверждал, что поиски внутренней стоимости акций можно сравнить с охотой за блуждающими огоньками. В экономике, построенной на обмене, стоимость любой вещи зависит только от нынешнего или будущего спроса и предложения. Моргенштерн считает, что у каждого инвестора на рабочем столе должно быть латинское изречение:
Res tantum valet quantum vendi potest[1].
Как предпринимать случайные блуждания
Итак, после краткого вступления давайте вместе отправимся на прогулку в дебри инвестирования, причем прогулка эта будет проходить главным образом по Уолл-стрит. Моя первая задача будет состоять в том, чтобы познакомить вас с историческими примерами ценообразования и показать, как они соотносятся с двумя теориями определения цен на объекты инвестирования. Еще Сантаяна предостерегал, что если мы не усвоим уроки прошлого, то будем обречены повторять одни и те же ошибки. Поэтому я опишу характерные примеры людского безумия из далекого и недавнего прошлого. Кое-кто из читателей снисходительно усмехнется, прочитав об ажиотажном спросе на луковицы тюльпанов в Голландии в XVII веке и о лопнувшем «пузыре» компании Sоuth Sea в ХVIII веке в Англии. Но при этом нельзя не учитывать, что подобная мания охватывала вкладчиков в 1970-е годы в связи с пятьюдесятью самыми популярными «голубыми фишками». Невероятный ажиотаж вокруг цен на земельные участки и акции в Японии и столь же невероятный обвал цен на них в начале 1990-х годов, безумие по поводу акций интернет-компаний в конце 1990 – начале 2000-х годов и пузырь на рынке недвижимости США 2006–2007 годов лишний раз доказывают, что мы все еще подвержены ошибкам прошлого.
2
Безумие толпы
Октябрь – один из самых опасных месяцев в году для биржевых спекуляций. Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль.
Марк Твен. Вильсон Мякинная ГоловаЖадность, овладевающая массами, всегда была главной причиной всех основных биржевых бумов в истории. Охваченные алчностью участники рынка отбрасывают в сторону прочный фундамент стоимости в призрачной, но такой привлекательной надежде, что им тоже удастся построить себе воздушный замок. Подобный ажиотаж охватывал порой целые нации.
Психология спекуляции – это поистине театр абсурда. Некоторые из пьес, сыгранных в этом театре, представлены в данной главе. Воздушные замки в них строились на голландских тюльпанах, английских «мыльных пузырях» и старых добрых американских «голубых фишках». В отдельных случаях кому-то удавалось заработать какие-то деньги, но лишь немногие из участников избежали потерь.
История преподает нам урок: теория воздушных замков хорошо объясняет подобные спекулятивные эксцессы, однако попытки предугадать изменчивую реакцию толпы – это крайне опасная игра. В 1895 году Гюстав Лебон в своей классической работе писал: «В тол пе нет ума, в ней накапливается только тупость». Видимо, не многие читали его книгу. Сегменты рынка, взмывающие ввысь только за счет массовой психологии, неизбежно должны рухнуть, повинуясь финансовому закону тяготения. Нежизнеспособные цены могут сохраняться годами, но в один прекрасный момент они падают. Это происходит с неотвратимостью землетрясения, причем чем шире разгул, тем сильнее наступающее похмелье. Лишь немногие из опрометчивых строителей воздушных замков обладают достаточной ловкостью и проницательностью, чтобы вовремя предугадать этот момент и выйти из игры, не потеряв деньги, когда все вокруг начинает рушиться.
Тюльпанное сумасшествие
Это была одна из самых сильных лихорадок быстрого обогащения, особенно если учесть, что случилась она в спокойной старой Голландии начала XVII века. Толчок событиям, приведшим к подобному безумию, был дан в 1593 году, когда профессор ботаники из Вены привез в Лейден коллекцию необычных растений турецкого происхождения. Голландцам очень понравились цветы, которые удачно дополняли их цветники, но не понравились цены, которые профессор запрашивал за них в надежде получить неплохой навар. Однажды ночью вор забрался в дом к профессору и украл цветочные луковицы, а затем перепродал их по более низкой цене, но со значительно большей прибылью.
В течение последующих десяти лет тюльпаны стали популярным, хотя и недешевым украшением голландских садов. Затем многие из них стали жертвой несмертельной болезни, вызванной так называемым мозаичным вирусом. Этот вирус стал спусковым крючком для развернувшейся дикой спекуляции цветочными луковицами. Вирус вызывал изменение окраски лепестков, создавая на них контрастные полосы, напоминавшие языки пламени. Луковицы таких тюльпанов ценились голландцами выше всего. Уже вскоре цены на них диктовались исключительно модой. Чем причудливее был узор, тем выше цена.
Разразилась настоящая тюльпаномания. Сначала торговцы луковицами просто пытались предугадать наиболее модные расцветки для будущего года, как это делают создатели одежды, изучая предпочтения покупателей в отношении тканей, цветов и фасонов. Затем они начали скупать луковицы в огромных количествах, ожидая последующего роста цен на них. И действительно, цены на тюльпаны поползли вверх. Чем дороже становились луковицы, тем больше людей считали их неплохим средством вложения денег. Чарльз Маккей, описывавший эти события в книге «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы», отмечал, что по сравнению со спекуляцией луковицами тюльпанов все исконные области экономики страны отошли на задний план: «На тюльпанах помешались все: дворяне, горожане, крестьяне, механики, моряки, прислуга, даже трубочисты и старьевщики». Каждый из них думал, что эта лихорадка будет длиться вечно.
Люди, решившие, что дальше цены расти уже не могут, с завистью наблюдали, как их друзья и родственники получают невероятные барыши. Трудно было удержаться, чтобы не присоединиться к этому ажиотажу, что большинство голландцев и сделали. В последние годы этого тюльпанного безумия, которое длилось примерно с 1634 по 1637 год, люди продавали землю, драгоценности и мебель, чтобы приобрести луковицы в надежде на будущее богатство. Цены на них достигли поистине астрономического уровня.
Финансовый рынок крайне изобретателен. Если имеется спрос, то найдется и метод, позволяющий расширить спекуляцию. Таким инструментом для спекулянтов тюльпанами стала опционная торговля, схожая с той, что процветает в наши дни на фондовом рынке.
Опцион предоставлял право купить луковицы по фиксированным ценам (обычно соответствующим среднерыночным на данный момент) в течение какого-то определенного промежутка времени. За право участвовать в опционе приходилось заплатить 15–20 процентов от договорной цены. Таким образом, приобретение опциона на покупку луковицы, стоившей 100 гульденов, обходилось покупателю всего в 20 гульденов. Если цена на эту луковицу впоследствии возрастала, допустим, до 200 гульденов, то владелец опциона пользовался своим правом приобрести ее за 100 гульденов и тут же вернуть торговцу, но уже за 200. В этом случае его прибыль составляла 80 гульденов (100 гульденов разницы в цене минус 20 гульденов, уплаченных за опцион). Для него эта прибыль оказывалась четырехкратной. Если бы этот человек просто купил, а затем перепродал луковицу, то увеличил бы свои вложения всего в два раза. Опционы позволяли участвовать в рыночной игре, заплатив незначительные начальные ставки, и резко повысить отдачу от вложенных денег. Однако одновременно увеличивался и риск. За счет подобных инструментов торговцам удавалось расширить состав участников рынка. То же самое происходит и сегодня.
История того периода изобиловала всевозможными трагикомическими эпизодами. Однажды некий моряк принес богатому купцу добрую весть о прибытии корабля с новым товаром. Купец в знак благодарности решил угостить его завтраком, на который была подана вкусная селедка. Моряк, увидев на прилавке нечто похожее на лук, недолго думая, закусил им селедку. Он и подумать не мог, что простой луковице нечего было делать среди дорогого шелка и вельвета, а одна такая «луковица» могла бы кормить всю команду корабля в течение года. Это был ценный сорт тюльпана Semper Augustus. Моряку пришлось дорого заплатить за угощение. Хозяин, сразу же забывший о своем гостеприимстве, на несколько месяцев упрятал моряка в тюрьму.
Историки регулярно прибегают к новым интерпретациям прошлого, и некоторые из них пытаются переосмыслить все истории с лопнувшими «пузырями» и доказать, что в завышенных ценах все же был какой-то резон. Питер Гарбер, один из таких историков-ревизионистов, предположил, что цены на луковицы тюльпанов в Голландии XVII века все-таки имели большее логическое обоснование, чем принято считать.
Гарбер сделал несколько ценных наблюдений, и я не считаю, что в структуре цен на тюльпаны в то время не было никакого рационального зерна. Например, сорт Semper Augustus был очень редким и красивым, и, как правильно отмечает Гарбер, он высоко ценился еще до того, как разразилась тюльпаномания. Более того, исследования Гарбера показывают, что высокие цены на отдельные редкие сорта тюльпанов сохранились и после общего краха, хотя их стоимость тоже упала в несколько раз. Однако Гарбер так и не отыскал рационального объяснения тому феномену, что цены на луковицы тюльпанов за один только январь 1637 года в 20 раз выросли, а затем в феврале еще в большей степени обесценились. Очевидно, как это всегда бывает в период спекулятивного помешательства, цены подскочили настолько, что кое-кто решил проявить благоразумие и продать свои луковицы. За ними последовали другие. Подобно снежному кому, катящемуся вниз по склону, этот процесс набирал скорость, и вскоре разразилась паника.
Правительство официально заявило, что для падения цен нет никаких оснований, но к этим заявлениям уже никто не прислушивался. Торговцы цветами разорялись и отказывались от контрактов на покупку луковиц. Был разработан правительственный план, который предусматривал реализацию всех ранее заключенных контрактов по ценам, составлявшим лишь 10 процентов от начальных, но и он потерпел крах, так как цены вскоре опустились даже ниже этой отметки и неуклонно продолжали падать. Вскоре большинство тюльпанных луковиц обесценилось настолько, что их можно было купить по цене обычного лука.
Афера компании South Sea
Представьте себе, что вам звонит биржевой брокер и предлагает вложить деньги в новую компанию, у которой пока ни продаж, ни доходов – одни только заманчивые перспективы. «В какой отрасли работает эта компания?» – интересуетесь вы. «Извините, – отвечает брокер, – эти данные не разглашаются, но я обещаю вам несметные богатства». Вы наверняка откажетесь от участия в такой игре – и будете правы. Однако, когда 300 лет назад такая ситуация произошла в Англии, инвесторы поступили по-другому.
В те времена англичане были настолько богаты, что могли позволить себе швырять деньги направо и налево. Длительный период процветания привел к накоплению громадных капиталов, которые практически некуда было вложить. Владение акциями в те дни рассматривалось как некая привилегия. В 1693 году, например, было всего 499 владельцев акций компании East India. Владение акциями приносило им многочисленные выгоды. В частности, дивиденды по ним не облагались налогами. В число держателей входили и женщины, так как акции относились к тем немногим формам имущества, которым в Англии имели право владеть и женщины. В 1711 году была образована компания South Sea, призванная заполнить вакуум инвестиционного рынка. Таким образом правительство надеялось восстановить пошатнувшееся доверие к себе и доказать, что оно выполняет свои обязательства. Компания взяла у правительства кредит почти на 10 миллионов фунтов, и ей было предоставлено монопольное право осуществлять торговлю в южных морях. Публика почуяла крупную наживу и с нетерпением ожидала выпуска акций компании.
С самого момента своего создания South Sea начала получать доход за счет других. Держатели правительственных долговых обязательств просто обменивали их на долговые обязательства компании. South Sea скупала государственные облигации по 55 фунтов, а затем в момент официального образования компании превратила их в собственные акции, которые продавались уже по 100 фунтов. Ни один из руководителей South Sea не имел ни малейшего опыта торговли в Южной Америке. Однако это не помешало им быстро оснастить целый флот кораблей, перевозивших рабов из Африки (работорговля в то время была самым прибыльным видом деятельности в Южной Америке). Правда, даже такой шаг не принес компании больших доходов, так как смертность среди рабов на кораблях была слишком высокой.
Однако у правления компании нельзя было отнять способности пускать пыль в глаза. Оно арендовало фешенебельный особняк в Лондоне, где в зале заседаний совета директоров стояло тридцать черных стульев из бука с позолоченными обойными гвоздиками. Сидеть на них было неудобно, но они создавали весьма презентабельный вид. Тем временем корабль компании с грузом дерева, которое с нетерпением ожидали в Веракрусе, был направлен в Картахену, где весь груз сгнил в порту ввиду отсутствия покупателей. Тем не менее курс акций держался уверенно и даже слегка рос на протяжении нескольких последующих лет, несмотря на девальвационный эффект от бонусных дивидендов и на войну с Испанией, которая временно приостановила всю заморскую торговлю. Джон Карсвелл, автор замечательной книги «Афера „South Sea“» (Тhе South Sea Bubble), писал о директоре компании Джоне Бланте, что тот «всю жизнь ходил с молитвенником в правой руке и проспектами своей фирмы – в левой, причем его правая рука никогда не знала, что творит левая».
Тем временем по другую сторону Ла-Манша еще один англичанин по имени Джон Ло создал очередную акционерную компанию. У Ло была мечта – заменить металлические деньги на бумажные, которые выпускались бы под гарантии правительства, а их производство контролировалось бы целой сетью местных агентств (создатели биткойна следуют старой традиции). Для реализации своих планов он приобрел захудалый концерн Mississippi Company и создал на его основе крупнейший в истории конгломерат с колоссальным капиталом.
Mississippi Company притягивала к себе спекулянтов и их деньги со всей Европы. Именно тогда появилось слово «миллионер». И в этом нет ничего удивительного, так как цена на акции компании выросла за два года со 100 до 2000 фунтов, хотя для такого роста не было никаких логических оснований. В какой-то момент общая стоимость акций компании более чем в 80 раз превзошла стоимость всех запасов золота и серебра Франции.
В это время на английской стороне Ла-Манша начали пробуждаться чувства патриотизма. Почему все капиталы уходят во Францию, в Mississippi Company? Что Англия может этому противопоставить? В качестве альтернативы вновь была избрана компания South Sea, перспективы которой начали несколько улучшаться, особенно с декабря 1719 года, когда был заключен мир с Испанией и исчезли препятствия в торговле с Южной Америкой. Предполагалось, что Мексика только спит и видит, как бы обменять свое золото на поставки хлопчатобумажных и шерстяных тканей из Англии. Это была система свободного предпринимательства в чистом виде.
В 1720 году совет директоров компании со свойственной ему алчностью решил обратить свою репутацию в звонкую монету и предложил скупить весь национальный долг Англии, составлявший в то время 31 миллион фунтов стерлингов. Это был смелый шаг, который понравился публике. Когда соответствующий законопроект был внесен в парламент, акции компании сразу же подскочили в цене со 130 до 300 фунтов.
Друзья и сторонники, которые способствовали принятию данного законопроекта, получили в качестве вознаграждения право на пакет акций. За акции не нужно было платить, но в случае повышения стоимости ценных бумаг компания готова была скупить их, выплачивая владельцу разницу. Среди тех, кто получил такую льготу, были фаворитка Георга I и ее племянницы, которые имели поразительное внешнее сходство с королем.
Двенадцатого апреля 1720 года, спустя пять дней после утверждения законопроекта, South Sea выпустила новые акции по 300 фунтов за каждую. Приобрести их можно было в рассрочку: 60 фунтов вносились сразу, а оставшаяся сумма распределялась на восемь последующих платежей. Даже сам король не смог устоять и подписался на пакет акций общей стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. Среди инвесторов развернулись настоящие бои за право обладания акциями. Чтобы утолить аппетиты публики, совет директоров South Sea объявил об очередном выпуске акций, на этот раз уже по 400 фунтов. Но покупателям и этого было мало. В течение месяца цена подскочила до 550 фунтов и продолжала расти. Пятнадцатого июня состоялся новый выпуск акций, и приобрести их можно было на еще более выгодных условиях: 10 процентов от стоимости в момент покупки, а следующий платеж наступал только через год. Эти акции стоили уже 800 фунтов. Половина членов палаты лордов и более половины депутатов палаты представителей изъявили желание приобрести данные ценные бумаги. Тем временем цена выросла до 1000 фунтов. Спекулятивная горячка достигла своего апогея.