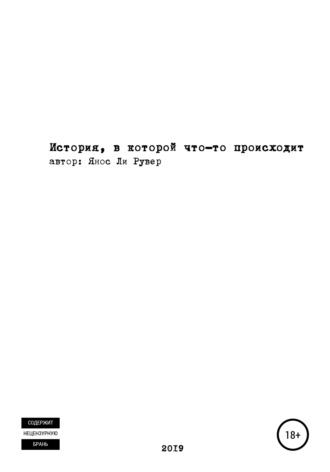
Полная версия
История, в которой что-то происходит
Это наша с ней вторая встреча. Первая была сто лет назад, когда я триумфально был представлен свету на странном творческом вечере, где вобло-сельде-образные бесталанные и не очень придурки зачитывали свою писательскую ерунду. А она, Афина – приглашено пела, почему-то с саксофоном наперевес.
Она идёт ко мне, чеканя шаги своими длинными ногами, её прямые волосы, в лаконичном образе, мотает из стороны в сторону.
Мы танцуем как парочка отбитых животных в брачный период. Наши движения архаичны, но они от души. И если Афина, имея опыт певицы и работницы масс-культуры на публике танцует относительно красиво и в такт, то я же чувствую, как мне будет потом стыдно за свои судорожные дёрганья. Но это всё будет потом. В пьяном состоянии мне кажется, что я выбил индульгенцию на такого рода мероприятия и выходки.
Шот за шотом.
– ПОЕДЕШЬ со мной? – спрашивает она слишком громко. Кажется, все певицы так громко разговаривают и так раззявисто открывают рот.
Я вижу её белоснежные зубы, на которых следы помады, на которых блики неприятного света. Мне не по себе, но что-то внутри отчётливо представляет, как я слизываю эту помаду с её зубов, как мои губы размазывают это ало-красное по её белому лицу. Как она лежит у меня в комнате, на мятом ворсе ковра. Голая, мастурбирующая, под сменяющие один за другим изображения членов на белом проекционном полотне, заглушая выкриками гул проектора.
Я показываю головой в сторону выхода, не выходя из танца.
После горячего поцелуя у гардероба, под смущённый взгляд старой уборщицы, за толстыми деревянными дверями – резкий отрезвляющий холод.
КЛИШЕ № 1: «Янос Рувер просыпается ото сна, шумно, с безумным вдохом, резко сев на кровати. Рядом мирно посапывает его жена. Янос успокаивается, вытирает со лба пот, старается дышать глубоко и размеренно. Он безотчётно поправляет одеяло жены, бросает взгляд на детскую кроватку, где ворочается их грудной ребёнок».
Афина ёжится, ковыряясь в сумочке, и поглядывая на меня.
Я в тёплой куртке, потому как соображаю на несколько ходов вперёд. А она не соображает на несколько ходов вперёд, и потому стоит в модном, но тонком пальто. Она находит увешанный безделушками брелок от маленькой машины и жмёт на кнопку. Где-то далеко на парковке скромно запищало.
С неба траурно начинает падать снег.
Мы идём к машине. Мы садимся в машину. Мы едем в машине. В маленькой, тесной, воняющей тропическим ароматом машине. До безумия холодной машине.
Холодный дешёвый пластик.
Афина неумело крутит тумблеры, пытаясь настроить печку.
Я отбрасываю её руки и включаю тепло как надо.
– Может… Я поведу? – спрашиваю я и понимаю, что не поведу – алкоголь мне даже эту фразу нормально не даёт сказать.
Афина многозначительно смотрит на меня. Я отворачиваюсь и представляю.
Представляю.
Пытаюсь представлять.
Как выдавливать из пустого тюбика пасту. С силой сжимаешь дно и давишь до самой горловины. Сука, вылезай, блять, мне надо.
Мне срочно надо…
Мы едем на секретную базу? Мы погружаемся в пучину великого приключения? Что? Мы едем в прошлое? Она откусывает своими белыми зубами жертвам пальцы, раззявив рот? Она делает из них губную помаду?
ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ?
И что делаю я?..
Как же воняет.
Мне хочется спать, меня гипнотизируют жёлтые огни светофоров, я подмечаю, что над каждым перекрёстком висит камера. Я подмечаю, что на каждом перекрёстке стоят патрульные.
Стук в окно.
Машина в тёмном дворе с запотевшими стёклами. Кругом сырая стылая осень. Меня окружают трое патрульных, они проверяют мои документы и допрашивают меня.
Эва поправляет свой свитер, свои пышные волосы и не знает, что делать.
Патрульные заботливо советуют мне отключить фары и сесть к ним в машину. Там они спрашивают, где я служил и кто я по жизни. Я поясняю им, где я служил и кто я по жизни. Мы ещё беседуем с полчаса. И они исчезают.
Мы с Эвой едем домой. Я кидаю рисунки на заднее сиденье. Целую и обнимаю её. Она скрывается за дверью подъезда, обернувшись и подняв в прощальном жесте руку.
Отныне мы видимся часто, нелепо, незрело, в соответствии с кодексом подростковой влюблённости.
6. Пе
У Афины красивое тело. Анатомически. Я до последнего надеюсь, что под платьем у неё геометрически искажённая структура какой-нибудь мятой абстракции. Но у неё аккуратная грудь, идеальной длины ноги, ровные пальцы, правильные пропорции вообще всего. Такое встречается не так часто, как многим кажется. Тела некрасивы, всегда есть изъяны. Этим они запоминаются, и на этом строится фетиш. Но почему бы и не изобрести фетиш идеального тела?
Мысли меня отвлекают, рассуждения сбивают с ситуации.
Я останавливаю свои похотливые действия как раз вовремя – на мне ещё остались джинсы и я не стану выглядеть конченным импотентом.
Афина говорит, что у неё кружится голова, а я говорю, что нам лучше не торопиться. Афина гладит меня ступнёй: проводит от груди до ширинки. До меня доходит: её ступни. Вот оно – совершенство мира, в его совершенном обличии.
Позже она сидит на краю своей кровати и смотрит на меня тёмными глазами. В них огромные, как под кислотой зрачки. В её взгляде блеск обожания. Влюблённая после первого свидания.
Я иду на кухню, укутанный в одеяло.
У неё в квартире повсюду холодный кафель. И в холодильнике лишь полупустая бутылка вина. Делаю глоток и морщусь, попутно пытаясь вспомнить, можно ли хранить вино в холодильнике.
Неприятно, товарищ низкоквалифицированный «пе», корявый обольститель, хороший тунеядец, и плохой алкоголик. Пить больше суток не получается. По истечении суток – любой алкоголь воспринимается как тошнотворный яд. И это хорошо, в какой-то степени.
Я смотрю в окно на унылый тёмный двор, на мусорную кучу, в которой ковыряются коты. Проезжает машина, тускло отсвечивая фарами по стене грязно-серого дома.
– Мне надо уезжать, – говорю я, натягивая джинсы.
– Я тебя отвезу, – мурлычет Афина.
Я взвешиваю «за» и «против» этого предложения. Банальное нежелание ожидания такси и объяснения таксисту адресов заставляют меня согласиться. Но дело не только в этом. Мне вдруг страшно остаться с самим собой.
Ведь придётся: работать.
С самим собой нехорошо, да?
С отвлекающим фактором не лучше, но хотя бы повод есть ничего не делать.
Мы спускаемся к неровно припаркованной машине. Вино (бутылка) мешает мне открыть дверь. Я решаю покурить, раз такое дело (подожду, пока дверь сама откроется). Но у меня нет сигарет.
Я пинаю дверь машины, пинаю так, что там остаётся большая вмятина. Продолжаю пинать с большим азартом, и дверь загибается внутрь, она слетает с петель, нелепо вваливается. Коты разбегаются от грохота. Ко мне бегут одинаковые в одинаковой же форме патрульные. Они светят фонариками, фанатично/маньячно целясь лучами мне в лицо, будто в этом их великое предназначение, будто только это их и заботит. Я прошу у них прикурить, не особо на что-то надеясь.
Мы с Афиной садимся на холодные сиденья. И аккуратно закрываем двери.
Мы едем.
Дешёвый пластик покрыт пылью.
Тропический аромат приобретает новые оттенки неприятного.
Я делаю глоток из бутылки и подавляю громкую отрыжку.
Афина смотрит на меня и делает «воздушный поцелуй».
Дура.
7. Первый
Афина трогает моё пианино. Она трогает мои черновики. Она трогает мои ручки и блокноты. Она включает мой проектор и выбирает на нём фильмы. Она бесцеремонно надевает мою рубашку и делает вид, что имеет на всё это право.
Я говорю ей сварить кофе.
И под шум кофеварки она орёт:
– Над чем ты сейчас работаешь?
Я делаю вид, что не слышу.
Не твоё дело, над чем я сейчас работаю. Это моя работа и ты мне мешаешь.
Засунь ей кляп в рот и перебей ноги, в таком случае, умник.
– …ты слышишь?
Я беру из её рук кофе и говорю, что мне надо работать. Она соглашается и ничего не происходит. Я спрашиваю, есть ли у неё идеи? Какие-нибудь гадости? Мерзкие подробности? Что-нибудь из области психологических давлений и отклонений? Извращения?
Я сажусь за компьютер и открываю новый документ.
Абсолютно пустой. Девственно чистый, притягательный. На нём сейчас – миллиард миров, миллиард ситуаций и героев в этих ситуациях. Их тянет поговорить. И темы их от глобального нытья о жизни, до низкой ругани за скидку на трусы.
Ну?
Я сморю на свою нимфу: она лежит на животе, в одной рубашке, болтает босыми ногами и молчит. У неё нет историй.
У меня нет историй.
Белый лист остаётся белым листом.
– Ты помнишь, как мы впервые встретились? – вдруг спрашивает Афина.
– Да, – отвечаю я.
Она обнимает меня так, будто мы давно знакомы.
Её грубый голос в разы лучше, чем по телефону. Она вся в разы лучше, чем на фото и чем я себе представлял.
Мы идем по узким тропинкам парка. Мы бредём быстрым шагом, мило беседуем и несмело подшучиваем. Она в больших белых кроссовках. Она одета компактно, стильно.
Мы сидим на лавочке, не касаясь друг друга. Её пышные волосы приятно пахнут. Меня охватывает дрожь, как какого-нибудь придурковатого девственника.
До нас доносятся рупорные переговоры железнодорожной станции – они здесь звучат постоянно, с интервалом в десять-пятнадцать минут. Солнце клонится к закату, освещая розовым типовые уродливые здания. Взбитый асфальт пешеходных дорожек зарастает травой. Шумные деревья из последних сил стараются сбросить жёлтые листья. Недовольные лица проходящих мимо людей фиксируются в моей памяти на годы.
Этот старый город – перевалочная станция.
Мы говорим и нас тянет друг к другу, но никто из нас не движется. Мы сидим на лавочке, не смея коснуться друг друга.
Я предлагаю отвезти её до дома.
Мы садимся в машину, но никуда не едем.
Она влюблено смотрит на меня.
Я впервые целую её, покорную, ожидающую, романтично красивую до безумия. И это самый лучший поцелуй в моей жизни.
– …но ты уже стал знаменитым. И поэтому я подумала, ты решишь, что это из-за этого.
– Зря. Поцелуй на первом свидании – залог отличных отношений.
У меня неудобное кресло. Оно перемалывает меня. Экран чересчур тусклый. В комнате очень душно. Мне не хватает дыхания. Все мои мысли – замотаны в толстый слой грязной ваты.
Афина всё смотрит на меня, у неё между налитых грудей, отсвечивает золотым крест. Мне кажется это чем-то неправильным, но символичным.
Пытаюсь развить идею. Всё время, блять, этим занимаюсь.
В квартирах соседей постепенно нарастают бытовые шумы.
Уже утро.
Я закрываю глаза и пытаюсь понять – хочется ли мне спать?
Мне хочется медитировать, бессмысленно мыча какую-нибудь мантру, но уж точно не спать.
Нужно выстроить строгий режим.
Нужно выстроить, да всё как-то невпопад.
8. Пробег
«Уезжаю в турне».
Да, она же певица. Фартовая, талантливая. Успех коммерческий – показатель и эквивалент таланта (?). Но есть же бездари, попавшие в момент. Они что, тоже талант? Не попадание в момент, а умение быть на плаву после этого момента – талант. Мой субъективизм пытается загнать всех причастных в одну со мной лодку. Да только: по себе зачем судить? Образ Афины – талант, в нормальном понимании этого слова. Афина человек-в-быту – ничем не пахнет и слишком громко разговаривает.
Неконцептуально снова. Что-то бессвязное лопочу в невозможности сформировать Мысль. Философские заметки по типу белое – бело, чёрное – черно.
Что я делаю? (лопочу бессвязное). Пытаюсь неуместным образом создать историю на коленке из имеющихся блеклых соображений. Не соображения создадут Историю. А деятельные персонажами факты. Надо встать, разбежаться и удариться головой об стену.
Это поможет.
Я встаю и прохожу широкими шагами из комнаты в комнату, разгоняясь. Слишком мало места для достойного сотрясения мозга удара.
А!
– Отмазок больше нет, Янос, приступай к работе… – воображаемый шёпот настойчив, как опытный доктор, заставляющий пройти курс терапии.
Доктор? Есть ли у нас на примете доктор?
Какой-нибудь доктор-маньяк-убийца-с-дебильным-детством-и-отклонениями? Какая-нибудь безумно больная история, что заставит сопереживать сложным героям? Дерьмо, наркотики, искалеченные организмы и души, нелепые поступки, нестандартная ориентация, инвалидности, унижения, война, пытки (детализированные, конечно), боль и сопутствующие результаты?
Толерантность с кулаками и добро без мозгов.
А?
Так незрело.
Так банально, чтобы этого не заметили.
Так банально.
Так всё банально, Господи…
Моя работа – это ходить из комнаты в комнату, злобно захлёбываться приступом паники, бить стены в желчной ненависти к нерешительной тупости и самобичеванию.
Я смотрю на деревянную доску, которую недавно повесил на стене. На ней ровные таблицы с полями «2000 символов». Ровные таблицы со списками посещения спортзала. Расписания правильного питания. На ней – какое-то недосягаемое, противное всему внутреннему жеманство. Попытка как-то устаканить происходящее внутри черепа.
За окном мокрая текстура снежного вечера. Одиозный вечер. Одинокий вечер.
Рабочий вечер.
Я бегу прочь из квартиры.
Хлопьями снега поглощаются звуки городской суеты. Фасады домов выполнены из фанеры. Массовка из обычных неприметных людей спешно расступается. Я бегу в лёгкой куртке далеко вглубь парка. Я бегу в темноту, всё ускоряясь.
Я чувствую незримое, витающее рядом – протяни руку – ухватишься, утащишь клубок какой-то мысли, какой-то идеи. Пытаюсь разглядеть знаки, осознать, сколько сюжетных линий должно быть на поприще Той Самой Истории, сколько Персонажей, их отправные точки и их финишную прямую: расставь вешки – и всё пойдёт как по маслу – они побегут по нужному маршруту, задыхаясь от новых впечатлений.
Но увидев, разглядев эти вешки, эти опорные пункты – я понимаю, как их много. Их так много и между ними можно составить столько витиеватых маршрутов, что вся сущность внутри сжимается, разрываясь в стороны, как от взрыва, под мнемонический дикий крик бессильного ужаса.
Коллапс ЦНС.
Я поднимаю глаза вверх – огромные Читатели медленно бредут вперёд, возвышаясь над заснеженными елями. Большие, размером с двадцатиэтажные дома, сплошь чёрные фигуры искажённых, но гуманоидов.
Медленно вверх. Медленно вниз.
Ты тот, кто сидит у костра и что-то рассказывает в передатчик, который усиливает твой голос, пока эти Читатели бредут за твоей спиной позёвывая.
Они раздавят тебя, когда найдут.
Когда увидят, кто ты есть.
Обыкновенный сплетник и выдумщик.
Если ты их не опередишь. Если снова не вырастешь. Потом, снова уменьшишься, но на какое-то время отсрочка будет получена.
Читатели идут на фоне ночного неба и монохромной действительности вокруг. Они всё-таки раздавят тебя. Им неинтересны твои судорожные желания убежать от себя, поймать что-то, что ты там придумываешь себе. Тяжёлый звук на низких частотах так же медленен, как их путь вперёд. Звук этот – растянутый во времени голос, что раздаётся из рупора железнодорожной станции.
Читатели переговариваются.
Спустя три года с нашей первой встречи, перед её отъездом в другую страну мы практически не общаемся. Этот отъезд воспринимается как побег в нечто светлое, прекрасное новыми надеждами и перспективами.
Я же – жалкий, мелочный, остаюсь на этой перевалочной станции. Я пишу ей гадости, где-то глубоко недоверчиво радуясь за неё, опустошённый от самого себя и бессмысленных ожиданий.
Она улыбается на фотографиях.
Она на них совсем чужая.
Она напишет, что рассталась со своим прошлым парнем, она будет писать, что счастлива с новым парнем, она будет писать про учёбу, полную радужного жизнь, горизонты, возможности, друзей.
А я через пару лет отстранённо забуду об этой интриге, окунувшись с головой в деятельную жизнь.
Холодный воздух внутри лёгких. Два коротких выдоха, один глубокий вдох. Глухой удар стопы о землю. Множество белых лап ветвей в парке проносятся мимо. Боль в мышцах изнуряюще суживает сознание.
Мне хочется загнать этого ублюдка до смерти.
Беги, мразь.
БЕГИ.
КЛИШЕ № 2: «Янос Рувер сидит в тесном офисе за рабочим компьютером в приятной прокрастинации. Он пересчитывает в голове денежные накопления за последний год и радостно улыбается. Он звонит в туристическое агентство и будто небрежно интересуется о выгодных семейных предложениях».
Я лежу на полу, пытаясь втянуть побольше воздуха. Окна раскрыты настежь, в комнату летит бриллиантовой дымкой снег. Я не могу надышаться этой баснословной свежестью.
ВСТАТЬ! ВСТАТЬ! ВСТАТЬ!
Пронзительный звонок телефона, лежащего на столе. Звонок цикличен. Он нагнетает истеричную атмосферу. Он неуместен, раздражающе криклив. Он заражает меня панической атакой.
Я продолжаю лежать на мягком тухлом ковре с примятым ворсом, пытаясь втянуть побольше холодного воздуха.
Порядок не работает. Беспорядок не работает. Работает удача и подмахивания готовым материалом в момент обращения её взора на тебя. Делай свой материал и броди с ним по обочине, пока кто-то не спросит: «Работаешь?». Давеча свезло пару раз подъелозить задницей навстречу фаллосу судьбы, а теперь стало ясно, что за фрукт этот Янос Рувер.
Кончился интерес от фортуны и нет умения держаться на плаву?
Кончился ты. Не правда ли?
Это навевает каким-то фатализмом.
Это всё от безделья, веселья, вольнодумности под соус необязательств. Работать надо.
ВСТАТЬ! ВСТАТЬ! ВСТАТЬ!
Телефон продолжает звонить. Мне кажется это чем-то бестактным. Дюжина за дюжиной звонков. Даже если это и что-то важное. Оно не сравнится с той катастрофой, что сейчас на самом деле происходит. Без гипербол. Я слышу сдавленный смех воображаемого шёпота. Я здорово его смешу.
Телефон замолкает.
Тишина – ласкает и баюкает.
Я лежу. В моей голове, словно разорванное лоскутное одеяло: разрозненные люди бредут по пустым страницам. Я пытаюсь раскрыть их за первые пять сцен. Это такая игра. Я обнажаю их характеры, их мотивации, их прошлое, их надежды и, самое главное – их Проблему. Я пытаюсь связать всё это воедино, упорядочить, а позже удалить ненужное.
Одеяло рвёт по швам от (ПАНИКИ)/(ОЧЕРЕДНОГО) тревожного звонка телефона. Стол раскалывается на две части, будто его распилили, чёртов телефон падает на пол. По полу ползут трещины, обнажая бетонные внутренности с торчащей из них арматурой. На меня недоумённо глядят соседи. Я подмигиваю им, на секунду превращаясь в их предмет очарования, заставляя их простодушно махнуть на меня рукой. Крошево бетона разлетается в стороны. Дом разваливается на огромные бесформенные фрагменты, утопая в пыли.
Жители падают, кашляют, трезвеют и осуждающе на меня смотрят.
– ДА!?
Илья восторженно напоминает мне, что завтра я должен быть на ток-шоу. Он спрашивает, как мои дела? Я отвечаю ему, что всё прекрасно. Он также напоминает мне о встрече с киноделами, и я чувствую, как Илья счастлив. Это заразительно. Я вдохновенно расспрашиваю детали встречи, что надеть, чем смазать, где побрить, на чём акцентировать внимание.
И спустя минуты разговора – тишина.
Ласкающая.
9. Ток-шоу
– Микрофон повыше, – делает замечание редактор.
Рядом со мной возникает один из его ассистентов. Он дёргает петличку микрофона на моей рубашке, бесцеремонно пытаясь натянуть её повыше. Я бью его по рукам и поправляю всё сам.
Позади, на трибунах, рассаживают массовку. Ассистенты просят расчёски, перетасовывают людей по своему внутреннему порядку, дают рабочие указания в рации и всё никак не могут настроить свет. Оператор, стоящий рядом со мной, деловито покручивает наушник и возится с камерой. Я пью предложенный мне невпопад кем-то из проходящих мимо чай, в какой раз поражаясь этой закадровой суматохе, закулисной захламленности и всеобщему хаосу.
На площадке появляется Майер. Она тянет губы трубочкой, перечитывает с планшета текст, держа его в вытянутой тонкой руке. Время от времени она на автомате покручивает в воздухе затёкшую кисть. Визажистка, будто совсем не к месту – вальяжно водит по её щекам толстой кисточкой. Майер, ощущая мой взгляд, поднимает на меня глаза. Я салютую стаканом с чаем и гипертрофированно ухмыляюсь.
На сцене школьного зала, в плохо скроенном костюме Гамлета сидит Янос. Он держит череп из папье-маше и отстранённо смотрит в зал. Луч прожектора освещает его скорбную фигуру. Янос произносит монолог. За ним девушка, исполняющая фоновую вторую роль. Она вся из кожи вон лезет и пытается что-то из себя изобразить. Монолог Гамлета-Яноса завершён. Зал взрывается овацией.
ЗТМ.
Пропустив несколько репетиций подряд, опоздав на третий показ, шатающийся Янос проходит в зал и видит: девушка фоновой второй роли, в элегантном платье, стоит с мраморным черепом в руках и ей, согласно загоревшейся надписи «Applause», – аплодирует весь зал.
«APPLAUSE»!
«Религия! Политика! Искусство! Жизнь!» – вдруг раздаётся над головой. Загораются лампы и Майер выходит на середину площадки, чеканя свой текст, объясняя тему, показывая узкой ладонью вверх, на экраны. На экранах проигрываются нарезанные важным видеоряды. Майер начинает задавать вопросы, требует россказней и отношений к и об от приглашённых гостей.
Камера номер один смотрит на жирного попа. Он рассказывает о «единой энергии воздействия» между политикой и религией. О синтезе искусства и необходимости «ока» за всем этим делом. Тощий мулла с брезгливым лицом говорит о необходимости строгого соблюдения каких-то требований, а иначе это грозит насилием. В их монологи вклинивается политик с крючкообразным носом. Он выкрикивает провокационные вещи и суматошно откашливается после каждого предложения. Лысый буддист улыбается и старается нежно что-то объяснить. Католический священник краснеет после сотого вопроса о педофилах. Поп отрицает, что роскошь – это не необходимость. Яростно кричит, отвечая на вопрос о недавнем освящении ядерной ракеты в прямом эфире, объясняя про принцип непротивления злу. Мулла устанавливает таксу минимального пожертвования на этот год. Политик хвалится многообразием религий.
Я понимаю, что талант Майер – находить таких крайних в своём ремесле представителей. Проникаясь духом бессмысленной ругани на пустом месте, стадно и животно я пытаюсь всем втолковать, что вся эта мифология – дешёвая психотерапия, и она потеряла свою актуальность. Я теряю лицо, но что мне.
Мне говорят заткнуться, приводя в довод, что моя книга – это сиречь беллетристика на религиозных догматах. Я предлагаю всем купить мою ещё не вышедшую новейшую книгу о культе атеизма и безбожия в умах ватиканских врачей. Мне говорят, что я несу чушь. Я предлагаю освятить мою книгу, кто-то из зала просит не устраивать из-за неё теракт. Мы смеёмся, а до меня доходит, какой инфо-кошмар начнётся в сети, и я думаю, что до выпуска эпизода в эфир надо к этому как-то подготовиться.
Нам транслируют видеоролик о конфуцианстве и летающем макаронном монстре.
Никто не понимает суть.
Не дождавшись окончания ролика, я пытаюсь всем объяснить, что ролик – дерьмо и неверно передаёт отношение человеческой природы к сверхъестественному. Они раздражаются на мои популистские выпады. Мне хочется довести их до состояния, когда кто-то полезет со мной в драку. Я чувствую, как саданит в кулаках, я представляю, как кровь морально устроенных в этой жизни священнослужителей заливает их козлиные бороды, как округлятся глаза буддиста, когда он получит под дых. Как радостно будет хлопать в ладоши политик, подпрыгивая на месте от возбуждения.
Майер, по ходу шоу, держит общий настрой – она мгновенно сбивает отвлечёнными репликами мои выпады, выпады святош, выпады политикана. Я вижу и ощущаю – ей всё по нраву, шоу идёт так, как надо. Она слегка упивается этим. До меня доходит, что я единично на одной стороне, а они все на другой. Это пахнет некой подставой, поэтому я затыкаю рот и сверлю Майер недовольным взглядом. Она подмигивает мне, слегка пародируя мою брошенную ей в начале шоу ухмылку. Так, что никто и не понял.
Талант!
По ходу витиеватых итоговых монологов все забывают главный вопрос выпуска, продолжают кричать, доказывать друг другу невнятные вещи, вздевать руки и махать микрофоном.






