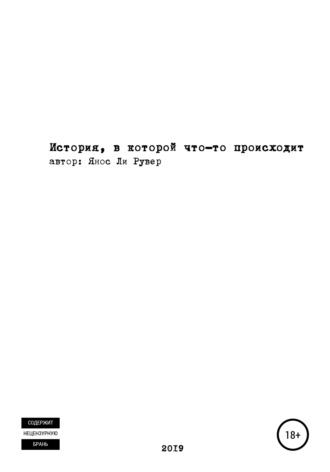
Полная версия
История, в которой что-то происходит

Янос Рувер
История, в которой что-то происходит
0. Контекст
Труп лежит на кухне.
Лицо будто задрапировано кровью, уже подсохшей, тёмно-багровой. Кровь под трупом, на кафельном полу, сюрреалистичным пятном, как из карточек теста Роршаха, вызывает ассоциацию с видом раскрытых крыльев.
Я нагибаюсь над телом и пытаюсь понять, кто это. Но всё заволокло тёмными завихрениями в движении, как если яростно зачёркивают чёрным карандашом неугодный рисунок до полной его неузнаваемости.
Это происходит в реальном времени: чем дольше я смотрю, тем больше штрихов поверх.
Я понимаю только одно – это женщина. Беременная женщина с набухшей грудью, мощными голыми бёдрами и раздутыми руками в язвах.
Она вдруг поднимает руку и чертит в воздухе знак.
Она вдруг начинает петь, но получается лишь хрип.
Штрихи исчезают, я чётко вижу кто это.
Она смотрит на меня и тепло улыбается.
Я сажусь на пол и закрываю лицо руками. В темноте, наедине с самим собой мне мерещатся звуки расстроенной игры на скрипке. Мне слышатся искажённые звонки тысяч телефонов. Мне кажется, что в дверь громко стучат.
Я убираю руки.
Её труп лежит на кухне.
В том же положении, что и лежал. С опухшими конечностями, как у утопленника. С огромным вздутым животом, в котором шевелится, захлебываясь смертью, нерождённый ребёнок. Многочисленные порезы на её белой коже. Огнестрельное ранение – обгорелое пятно вокруг отверстия под прикрытым глазом. Запах формалина, запах пороха смешанный с вонью металла, запах огня, опалённого мяса.
На кухню заходит человек с синими глазами. Он пытается что-то у меня узнать. Тормошит меня и спрашивает, спрашивает, спрашивает. Я вяло отталкиваю его. Махнув на меня, он поворачивается ко мне спиной.
Мне дико больно в области затылка. Кромешная боль застилает всё вокруг, погружая в белый шум. Я падаю на пол, хватаясь за голову. Всё – лишь бы только эта боль отпустила меня. Мои руки оскальзываются по холодному кафелю – я касаюсь липкой крови. Я ползу на четвереньках под тонкий громкий свист. Мне хочется уползти подальше, но ничего не выходит. Я кричу, выныривая из небытия, и открываю глаза.
Воображаемый голос шепчет мне: «И ребёнок её во чреве… Чистый… Мёртв…».
Человек с синими глазами умирает, упав на её труп. На его черепе сзади – бездонная дыра. Его предсмертные конвульсии напоминают оргазм. Он дёргается, трогая её мертвое тело, задирая ей платье, сжимая её бёдра, обливая её свежей кровью, пока не замирает.
Ублюдок вонючий.
Я навожу порядок. Если меня обделили смертью и смыслом, то остается сделать хотя бы это: навести порядок.
Мне кажется, они смотрят за мной в окна. И поэтому – я стараюсь всё сделать наиболее художественным способом: не торопясь, манерно, но как можно более лаконично и информативно.
Перепечатав часть текста, Янос взглянул на получившееся.
Он снял очки, положил их на стол. Встал со стула, прошёл широкими шагами из комнаты в комнату. Постоял у большой синей доски с кучей развешанных листов с таблицами. Вытащил телефон. Перечитал сообщение от Эвы.
«Не жалей об этом».
Положил телефон обратно в карман.
Подошёл к столу, взял очки, рукавом рубашки оттёр со стекла свой отпечаток, разглядывая его на свет. Сел на стул.
Перепечатал текст снова. Взглянул на получившееся.
Перепечатал снова.
Снова.
И снова.
1. О ворохе сотворённом
«Если первая книга – это поиск троп в болотах лукавства перед читателем, то вторая – это уверенная поступь по асфальтированному покрытию прямо к сердцам уже завоёванных читателей…» (Эльдар Светов, главный редактор).
«Я думаю, продемонстрированный нам блестящий взлёт – не что иное, как удача. В одном месте и в одно время столкнулись те обстоятельства и люди, что привели к странному успеху. По крайней мере – первая книга точно. А вторая – мастерство на лаврах первых плодов» (Роб Рубинштейн, режиссёр).
«Напишу ли я что-то ещё? Наверняка, да. В планах есть несколько интересующих меня, и, надеюсь, остальных, тем» (Янос Рувер).
«Это нельзя назвать одной голой удачей. Это кропотливый труд, как писателя, так и издателей. Маркетинг, интеграция в другие сферы, мерчендайз, переводчики, редакторы, рядовые ритейлеры, оптовики. Многие вовлечены в этот процесс. Безусловно, на начальном этапе нам повезло со многим: вера отдельных людей в Яноса и их помощь, но нельзя исключать и усилия многих и многих людей в этой и смежных сферах, благодаря которым нам сопутствовало признание, как творческое, так и коммерческое… Вспомните остальных – разве им не помогла в начале капризная фортуна?» (Илья Роев, агент и близкий друг Яноса Рувера).
«Она, муза вдохновения, коварная штука. Сегодня ты работаешь 24/7, а через неделю ты прозябаешь в прокрастинации. Не стоит давить. Всё получится, дайте только время. Пусть и говорят, что вдохновение – ерунда на постном месте и нужна дисциплина, в нашем случае – даже идеальные условия и жёсткая дисциплина не дают плодов» (Бен Кремер, критик).
«Вернётся ли наш писатель к своему ремеслу? Думаю, да. Он глубокий человек, ему ещё есть что сказать. Ну, или, в крайнем случае, у него кончатся деньги…» (Инга Майер, телеведущая).
2. Апартаменты
– Меня зовут Янос и у меня… кризис, – я замолкаю, оценивая произведённое впечатление.
Воображаемым шёпотом с невнятной интонацией раздаётся:
– Тебе… Нужно побриться…
Я смотрю на тусклый солнечный свет, пробивающийся сквозь плотные шторы. Смотрю на мигающий огонёк монитора.
Синий периодический.
Подхожу к столу, на котором в хаотичном беспорядке лежат кипы исписанных черновиков. На них стоят заляпанные кружки, стоит особняком пустая тарелка. Под столом – мусор. Пахнет затхлым.
Это всё примятый ворс ковра.
В голове будто монолитные столбы вдавливают мозг куда-то вниз. В темноту обречённости. В панику. В апатию.
– Наведи… Порядок?..
– Где? – уточняю я после долгой паузы.
Мне никто не отвечает.
Я иду в ванную. Из пыльной вентиляционной решётки слышатся эхоподобные утробные звуки: шум воды и припадочный соседский лай металлическим звоном из тёмной трахеи вроде бы приличного многоэтажного дома.
Слишком долго я в тишине и с самим собой. Слишком пусто в жизни. Оттого это и происходит.
Заблуждаюсь ли я в этом вопросе? И любит ли писательство тишину?
– Однозначно на этот вопрос никто ответа не даст, – говорю я своему отражению и с силой тычу в него бритвой. Моё отражение покрыто засохшей зубной пастой, разводами от пальцев по грязному зеркалу, отпечатками подмывающихся шлюх.
Оно недоверчиво смотрит на меня, ожидая подвоха.
Я открываю кран, и на меня нападает кашель. Он выворачивает меня наизнанку. Заставляет изгибаться в припадке. Упираться в холодную белую раковину и фокусировать взгляд на тёмном отверстии слива.
Выблеванные лёгкие кусочками окропляют ровную керамическую поверхность. От каждого кусочка медленно стекает вниз густая кровь. Через мгновение в раковине оказывается желтоватый желудок и ворох органов. Они шевелятся, от них идёт едкий дым. Я ворошу в кровавой каше рукой, стараясь найти что-то стоящее, но ничего не нахожу.
Кашель отпускает меня. Белая керамическая поверхность чиста. Она бьёт по глазам отражением света яркой лампы. Тёмное бездонное отверстие слива пялится осуждающе.
Я выравниваю дыхание, поднимаю глаза вверх – моё отражение пытается мне улыбнуться, но у него ничего не выходит.
«Эм-эм-патия», – чинно раздаётся соседский лай в глубине бетонных стен.
3. Очистительная станция
Уборка заняла меньше часа.
Солнце, которому больше не препятствуют, освещает комнату ярко, наполняя её вычурным жизнелюбием. Ровные углы опустевшего стола. Голые, строгие. Олицетворяют порядок. Чрезмерная лаконичность комнаты теперь нагоняет тоску и ещё большее желание не работать.
– Надо пройтись, – говорю я себе.
Говорю неуверенно, совершенно не с той интонацией, какая звучит в голове. Не так, как это будет выглядеть в печати. Они даже не подозревают, не ценят эти плюсы инструкции к воображению, являющиеся минусами в работе составителей. Но кичась своим эго – они хотят быть режиссёрами в полной мере.
Не выйдет.
Ведь мне всё по плечу.
Холодная, пробирающая до костей сырость. Большой цветастый двор, забитый машинами, суетящимися людьми, кричащими детьми, спортивными площадками, аккуратными урнами, приятными вывесками.
Я сажусь на лавочку.
Мне хочется резко встать и бежать. Мне хочется остаться на месте. Мне хочется исчезнуть. Мне хочется объять всё вокруг. Мне хочется с кем-нибудь поговорить. Долго и обстоятельно изложить свои мысли. Упорядочить их под чьим-то контролем.
По кирпичикам построить свой порядочный дом.
По клеткам тетрадным расчертить свои таблицы.
По пунктам составить списки.
Я вытаскиваю блокнот и записываю текущие планы. В моей голове эти планы радужны, имеющие сотни оттенков и множественные вариации. Но на белоснежных листочках они блеклые и совсем не впечатляют.
Я смотрю на свой балкон. Высоко. Но не примечательно. Этаж восемнадцатый, если считать помещения под первым жилым как за отдельный этаж.
Переезд сюда, в современный элитный район, в отдельную личную жилплощадь своей переменой должен был подстегнуть к чему-то новому в ощущениях к жизни. Покупка допотопной печатной машинки, придвинутый к панорамному окну стол – к новому в творческом плане. Смена окружения, тотальная занятость, а после – тотальная бездеятельность («перерыв») – к новому в штрихах вдохновения. Но никак не к полной деградации и тупику. Ведь когда-то, в прошлой жизни, стеснённые обстоятельства, неуютное место, окружение не давали писать «как надо». Унылый серый двор старой тесной квартиры претил вензелям одухотворённого пера. Суматоха жизни мешала в полной мере раскрыться всему и всему внутри. Отсутствие стола у панорамного окна, лишних денег и старой печатной машинки плохо влияло для сотворения великого и вечного.
– Мда, – подытоживаю я вполголоса, растирая глаза.
Первая книга выродилась под давящим валом бытового катка, проезжающего по пальцам. Она год за годом по словосочетанию, рождалась под крики соседей в комнате, под шум рабочих звуков на странных местах, под гогот окружающих и ненависть к себе. Вторая, вслед за первой, писалась в нервных поездках, урывками, отпечатываясь в блокнотах, на салфетках, мятых листах, в битых файлах на подвисающем ноутбуке.
Сейчас бы они получились глубже, осмысленней, детализированней. Более правдиво и лаконично. Но сейчас это не нужно.
Повтор за повтором.
ОПЯТЬ.
– Остановись…
Свежий воздух бьёт по мозгам. Скрип качелей и шум детей с их суетливыми взрослыми вдохновляют на новый виток триллера ощущений. Я звоню своему агенту и прошу приехать. Илья будто немного озадачен. Он соглашается заехать в течение дня.
Я пытаюсь понять его чувства и мысли. Меня охватывает волна приятного его удивления, я вижу расписание его дел и попытки втиснуть в тесный график поездку ко мне.
Илье кажется, что я закончил работу по третьей книге.
Но всё совсем наоборот.
С удовлетворением садиста, смешанного с досадой неудачника я поражаюсь своей подлости – подлости разрушить это его приятное ожидание.
Нерациональный материально, но рациональный, скорее морально – бунт. В чём его причины, психологические эксцессы и каково его второе дно – сил и искреннего желания разбираться нет.
Ко мне подсаживается парень в белой толстовке. Он узнаёт меня и бесцеремонно просит повторить шутку из рекламы, в которой я недавно снялся. Я говорю ему, что он обознался и ухожу, бессознательно жалко улыбаясь.
Рядом с домом большой парк. В нём выдают напрокат велосипеды. Я беру один на пару часов и выруливаю на пустующую дорожку. Холодный ветер бьёт по костяшкам пальцев, переключающих скорости. Приятная боль в мышцах ног с непривычки. Шорох шин по шершавой поверхности дороги убаюкивает. Треск подшипников погружает в оцепенение.
Множество начинающих рыжеть деревьев проносятся мимо. Переход ослепительного заката в сиреневую темноту фатален, безвариативен. Это чувство отвратительно. Чувство предопределённости без возможности остановки процесса.
Разговоры людей смешиваются в разорванные отголоски. Костюмы людей смешиваются в лоскуты одеяний большого Гражданина. Я сную под ногами этого Гражданина. Мне не даёт покоя Его загадка как Читателя. В чём ваш/Ваш секрет? Что бы ты хотел услышать? Будут ли тебе нужны мои соображения? Хотел бы ты узнать, что происходит?
Я останавливаюсь отдохнуть. Рядом со мной разбитый кривой столб. У столба стоит мужик и держит на поводке собаку, которая суматошно отливает на этот столб, елозя короткой ногой.
Собаку бьёт током. Резкий удар тока – ослепительная вспышка, громогласный хлопок и аппетитный запах палёного мяса. Мужик недоумённо оглядывается, тянет к себе оборванный поводок. Потом он ищет виновных, выуживает информацию, делает выводы, проводит допросы и следствия. А в конце выясняется, что этот мужик работал здесь электриком n-лет назад. И именно он допустил то, что этот старый столб забыли отключить от общего питания. Мужик напивается, приходит сюда среди ночи и падает на оголённые провода, которые так и торчат тут.
Неконцептуально.
А если мужик был зоофилом? Нежным и любящим.
Неконцептуально и отвратительно.
А если эта собака была лучшим другом его ребёнка, который трагически погиб?
А если это мужика убивает током, а собака потом находит виновных?
Где взять сочный триггер. Как составить точный паттерн. Как часто его повторить, чем завязать и каким образом развязать?
Ответь!
– Прекрати…
Отвратительно, как этот горелый запах, что возник под носом.
Горькая слюна шлёпается на асфальт.
Мужик тянет собаку за собой. Та оглядывается, будто ища поддержки с моей стороны этому кощунственному рабству. Я показываю ей средний палец.
Муза стонет в родильном отделении. Она тужится, вся в поту, побелевшие кисти рук мнут простынь. Акушеры столпились вокруг её раздвинутых ног. Спустя время они вынимают из Музы нечто уродливое, склизкое, издающее лающие звуки и воняющее жжёным. Брезгливо морщась, они выбрасывают это в большое эмалированное ведро.
4. Агент по всем делам
– Чем обрадуешь? – Илья перебирает бумаги и посматривает на меня своими проницательно-синими глазами.
– Думаю линзы купить. Синие.
– Купи, – дружелюбно соглашается Илья.
Он пододвигает мне стопку документов. Я безучастно просматриваю их. Честно пытаюсь вникнуть, но ничего не удерживается в сознании. Продление договоров, дополнительные соглашения по правам, соглашения на права по продукции. Итоговые и предварительные отчёты. Исключительные и неисключительные.
Мутная белесая топь в чёрных иероглифах.
В процессе подписания, вопреки внутреннему нежеланию, я говорю Илье, что застрял в созидании своего шедевра. Сердясь на себя, чувствую то самое подлое (необъяснимое) удовлетворение от скрытного разочарования Ильи. Он его не покажет. Даст пару советов, стараясь не мешать мне творить. Может, подкинет ожидаемых поворотов сюжета. Он знает, что лучше я сам, даже если придётся ждать года.
А может, зная это – он понимает, что так выгоднее?
Хочется ударить себя. За эти противоречия самому себе, за поиск глубины смыслов там, где их нет. За попытки сделать персонажей от жизни простыми, плоскими, зная всю их сложность и путанность в самих себе от себя же. Созидать их такими: с простейшей мотивацией, скупым набором слов, однобоким, максималистичным характером и взглядом на жизнь.
Яркая белая вспышка ослепительного света по глазам.
УДАРЬ. УДАРЬ. УДАРЬ.
Я закрываю глаза и медленно выдыхаю.
Я отодвигаю стопку бумаг.
– Чем ты целыми днями занят? – спрашивает меня Илья, перепроверяя, там ли я поставил подписи, где нужно.
Я отвечаю, что убиваю время в социальных сетях, трачу остатки денег и сплю. Илья скептически кривит лицо и предлагает выпить. Я не могу понять – хочу ли я выпить, но соглашаюсь.
Выбивая из формочек, в стаканы, лёд, Илья задвигает мне мои же от меня советы, которые я когда-то, где-то, сто лет назад зачитывал на каких-то лекциях. Читай книги, чтобы писать книги. Смотри фильмы, чтобы снимать фильмы. Слушай музыку, чтобы сочинять музыку. Просто пиши, чтобы писалось. И прочий очевидный бред. Но таков ритуал приободрения впавшего во грех уныния.
– Слушай, предлагают стихи написать. О столице. Даже не стихи, гимн. Деньги хорошие, а учитывая репутацию, денег можно взять и больше…
Огромная башня Столицы нелепо кренясь, падает на голову застывшему среди бегущих людей Яносу. «Ты монумент великий…», – ободряюще шелестит мне за ухом первую строку воображаемый шёпот.
В помещении огромной башни, что падает на меня, я вижу, как мне, приторно-сластолюбиво улыбающемуся, пожимает руку довольный Президент и вручает позолоченную в рамке «ГРАМОТУ», а Илье позади нас, выдают напечатанный на крафтовой бумаге банковский чек.
– …и силы всей страны оплот, – бормочу я, ощущая явственно привкус бумаги и запах кислотной мерзости.
– Что? – спрашивает Илья.
– Ничего. Плохая затея. Не хочу такое делать, – заявляю я.
– Ну и ладно. Но ты подумай.
Я принимаюсь обсуждать новые идеи. У меня плохо выходит изложить копошащиеся в мозгах задумки в строгом историеподобном исполнении. Я путаю, забегаю вперёд, недосказываю важные части. Попутно меня поражает, как у меня вообще выходит что-то писать, если я не могу ничего толком объяснить даже своему агенту. Илья интуитивно понимает мои задумки, он понимает, что я имею в виду, но всё же он пытается сменить направление разговора. Чуть опьянев, он хватается за надёжную, в плане позитивно укрепляющих тенденций, нить: наши общественные достижения. Их легко и приятно обсасывать.
Я поддакиваю, хоть скептицизм во мне бурлит.
Первая книга: проданы права на печать и экранизацию сериала за рубежом. Вторая: проданы права пока только печать, но ведутся переговоры по экранизации в полнометражный фильм. Продюсерский центр, какие-то участия в каких-то прайм-тайм шоу, лекции и интервью прошли парадом успеха пару лет назад, постепенно сходя на безвестность.
Всё это звучно со стороны. Всем этим можно хвастаться им, остальным.
Но в этом нет ничего особенного. Это не произвело фурор в общекультурном значении всего человечества. Возможно, вы не поймёте, но опьяневший Илья это понимает. И поэтому он прекращает блевотную ерепенистую канонаду и говорит чисто, абсолютно адекватно, выпуская в потолок желтоватый сигаретный дым:
– Ты понимаешь, ты в этой стране первый такой.
Я мысленно обещаю ему, что наша третья книга станет Большим и Знаковым явлением. Что о нас не забудут через короткое время. Что мы сделаем так, как хотим и при этом умудримся продать себя как можно дороже. Пьянея уже сам, я обещаю всё больше и больше.
Но вдруг понимаю – что всё это не имеет значения.
5. Шот
В делах, касающихся выпивки, мне запоминается ярко и однообразно – стеклянное осушаемое дно.
От малых рюмок, до больших пивных кружек.
Глоток – стеклянное дно на память в подарок.
И снова.
Разговоры людей вокруг смутны и не имеют значения. Они источники глухого смеха, источники каких-то будущих полунадуманных историй, они как точки опор социального значения.
Искренние источники жизни.
Шот за шотом.
Сегодня день рождения престарелого главы центрального телеканала. С этого же дня он добровольно уходит на пенсию. У его коллег и подчиненных чувство облегчения. Они ощущают новое, им грезятся значимые перемены, свежий бриз свобод и прочее в таком духе. В связи с этим – обстановка на празднике раскованная, воодушевлённая.
Я на тесно усаженном диване. Справа от меня поэтесса, певица и композитор в одном лице – Афина. Она трётся об меня своим голым белым бедром, задрапированным лазурным платьем, рассказывает всем сидящим о том, сколько ей присылают изображений членов и что можно открыть целый музей, посвящённый этому. Слева, разнузданный, с красивой пышной бородой, здоровяк Гавриляйкис. Он работает в министерстве культуры, но в это министерство не верит, мол, это для творчества вредно. Напротив нас сидят странные персонажи с телевидения и странные персонажи с интернета, все они хорошие приятели Афины. Эти две группировки рассказывают о своей недавней эмигрантской жизни, перебивая друг друга и, стараясь обскакать друг друга, жалуются, в плане «кому было тяжелее». Они перемалывают истории про потёкшие унитазы в съёмных квартирах, ночевки на вокзалах, проекты за еду и что-то в этом роде.
Шот за шотом.
К нашему разобщённому столу присоединяется ещё сброда. Продюсер, эскорт-тёлка, телеведущая Майер, пророчащаяся в диктаторское руководство каналом, ещё один писатель, по совместительству мультипликатор, жирный шоумен, неприлично молодой клипмейкер, и мучающийся от происходящего, художник со своей тощей женой.
Задорный корпоратив работников культуры и просвещения.
Я смотрю на художника. Желающий писать симфонии по типу Айвазовского – пишет занудные абстракции и поп-арты коммерческого успеха. Он весь в татуировках. В носу у него кольцо, как у коровы. Мне хочется обнять его и пожалеть. Одновременно мне хочется выдернуть это кольцо, разорвав носовую перегородку, ударить кулаком по лицу и заорать: «Хули ты ничего с этим не делаешь?».
Но вопрос в другом – кто его сюда позвал и почему он согласился?
Он идёт в сторону туалета, и я иду за ним.
В туалете я умываю лицо, раскрасневшееся, горячее от алкоголя, подгадываю момент, когда художник проходит мимо. Я обнимаю его и говорю ему, что всё будет хорошо. Он ниже меня на полголовы, у него тонкие мягкие плечи. Он возмущён. Он толкает меня и говорит, что я пидор и чтобы я держался, нахрен, подальше. Я с силой сжимаю пальцами ему щёки и говорю, чтобы он заткнулся. От него пахнет масляными красками. От этого запаха крыша едет.
Художник мешкается, отбрасывает мою руку со своего лица и бежит прочь, ударившись об косяк, нелепо хлопнув дверью, окатив меня испуганным взглядом на прощание.
За голубоватым зеркалом, в идеально белом освещении, давящем на глаза со всех сторон, в восхитительной уборной хохочет Янос Рувер. Хохочет не как безумный маньяк, хохочет приемлемо. Будто вспомнив приличный анекдот.
Мы сидим в моей старой машине. Мне восемнадцать, Эве то ли пятнадцать, то ли шестнадцать. Она показывает мне свои картины. Толстые мазки масляных красок изображают невероятные фигуры, геометрически искажённые структуры мятых абстракций, напоминающих части тел каких-то уродцев с пружинами вместо голов.
Да, это красиво. Наверное.
Я просто первый раз вблизи вижу рисунок масляными красками.
Я запоминаю этот запах.
К нему примешивается запах бензина и сладкий аромат духов. Что она понимает в духах, чтобы так элегантно ими распаляться?
Я целую Эву, стараясь смять всю её полностью. Мне хочется, чтобы она вся была моей.
Её рисунки валяются по всему салону. На моих руках следы от непросохших красок. Я целую её и это самый лучший поцелуй. И самое приятное тело в мягком свитере.
Что я понимаю в поцелуях?
Вполне достаточно, чтобы понять, что это восхитительно.
Её зеленоватые глаза с вкраплением серого смотрят опасливо. Зрачки в них становятся всё шире. Она барахтается, старается меня слабо оттолкнуть, но поддаётся и её губы смазываются с моими.
Она закрывает глаза.
Это свидание, второе по счёту моей памяти, идёт по странному сценарию.
Мне хочется сказать ей, что никакого сценария нет, есть только желание целовать её сладкий рот, а рисунки и подростковая тупая болтовня – лишь предварительный антураж.
Нас бесцеремонно обрывают стуком в окно, слепя белым лучом фонарика.
Я возвращаюсь из туалета в зал и решаю отсюда уезжать.
Специально делаю крюк, чтобы посмотреть на «свой» диван. Художник бросает на меня взгляд. Его жена смотрит на меня настороженно безотрывно. Я подмигиваю ей. Афина, делая безумные глаза, расталкивает сидящих вокруг, порываясь выйти. Она идёт ко мне. Я стою как вкопанный, уставившись на неё.






