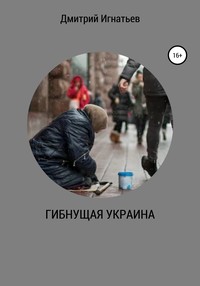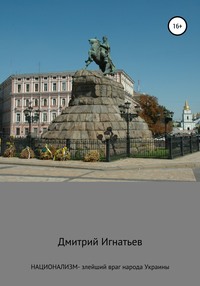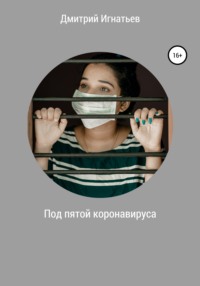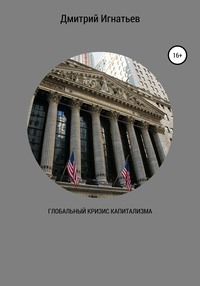полная версия
полная версияКоммунизм против капитализма. Третий раунд
После XVII съезда прошло пять лет.
И вновь на XVIII съезде партии, состоявшемся в марте 1939 г., первым разделом Отчётного доклада Сталина был раздел «Международное положение Советского Союза».
Сталин отметил, что прошедший период был полон изменений. В частности, капиталистические страны, не успев вылезти из предыдущего кризиса, со второй половины 1937 г. погрузились в очередной экономический кризис, захвативший главным образом экономически мощные страны – США, Англию, Францию – страны, которые ещё не успели перейти на рельсы военной экономики.
Безработица, упавшая с 1933 г. по 1937 г. с 30 до 14 миллионов человек, вновь начала расти и увеличилась до 18 млн.
Нарастало производство в Германии, Японии и Италии, странах перестроивших свою экономику на военный лад, и то в 1938 г. начали проявляться признаки кризиса в Италии и Японии.
Только Советский Союз продолжал своё стремительное развитие, с 1934 по 1938 гг. вдвое нарастивший свое промышленный потенциал, а по сравнению с 1929 годом объём промышленного производства в СССР увеличился почти в 5 раз.
Новый экономический кризис ещё более обострил отношения между капиталистическими странами, причём Япония, Германия и Италия приступили к переделу мира путём военных действий. Стал складываться блок трёх агрессивных государств.
Сталин приводит перечень важнейших событий, положивших начало новой империалистической войне.
В 1935 г. Италия напала на Абиссинию (Эфиопию) и захватила её.
Летом 1936 г. Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испанию.
В 1937 г. Япония, после захвата Маньчжурии, вторглась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять из зоны оккупации своих иностранных конкурентов.
В начале 1938 г. Германия захватила Австрию, а осенью 1938 г. – Судетскую обл. Чехословакии. В конце 1938 г. Япония захватила Кантон (Гуанчжоу, Китай), а в начале 1939 г. – остров Хайнань.
«Таким образом, – говорит Сталин, – война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию, от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара».
«Новая империалистическая война стала фактом», – указывает Сталин, при этом отмечая, что она ещё не стала всеобщей, мировой войной.
Сталин анализирует, почему неагрессивные страны, в первую очередь США, Англия, Франция, обладающие громадным экономическим и военным потенциалом, намного более сильным, чем у блока агрессивных государств, отступают перед ними и сдают свои позиции, почему они отказываются от политики коллективной безопасности, в чём причина перехода их на позицию невмешательства, на позицию «нейтралитета».
И поясняет, что «политика невмешательства (выделено мною, Д. И.) означает попустительство агрессии, развязывание войны, – следовательно, превращение её в мировую войну. В политике невмешательства сквозит стремление, желание – не мешать агрессорам творить своё чёрное дело, не мешать, скажем, Японии, впутаться в войну с Китаем, а ещё лучше с Советским Союзом, не мешать, скажем, Германии, увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны глубоко увязнуть в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, – выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, «в интересах мира», и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия. И дёшево, и мило»!
Сталин отмечает провокационную роль англо-французской печати, которая, перед началом вторжения Японии в Северный Китай, за два-три месяца до этого на все лады кричала о слабости Китая, т. е. как бы поощряла, подталкивала Японию к этому вторжению.
Англия и Франция отказались от своих договорных обязательств и уступили Германии Австрию, затем бросили на произвол судьбы Чехословакию, отдав Германии Судетскую область. А потом, говорит Сталин, стали на все лады кричать о «слабости русской армии», о «разложении русской авиации» и т. д., то есть, фактически, подталкивали немцев дальше на восток, поощряли агрессора к войне с большевиками.
Сталин по этому вопросу отмечает: «Необходимо, однако, заметить, что большая и опасная политическая игра, начатая сторонниками политики невмешательства, может окончиться для них серьёзным провалом», что в очень скором времени и произошло.
Отсюда и вытекают задачи партии в области внешней политики, о которых говорит Сталин:
«1. Проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами;
2. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками;
3. Всемерно укреплять боевую мощь нашей Красной армии и Военно-Морского Красного флота;
4. Крепить международные связи дружбы с трудящимися всех стран, заинтересованными в мире и дружбе между народами».
§ 2. США, Великобритания, Франция – пособники восстановления экономики Германии, материальной базы подготовки новой мировой войны
Первая мировая война завершилась империалистическим миром, оформленным договорами версальско-вашингтонской системы послевоенного устройства. И при разработке договоров, и в самом их содержании сказались империалистические противоречия, хищнический характер империализма, органически присущие ему стремления к ликвидации революционных завоеваний народов и ко всё большему их закабалению. Это определяло политику империалистических государств. («История Второй мировой войны…», т. 1, стр. 10–11).
Ленин выступая с Политическим отчётом ЦК РКП(б) на XI съезде партии 27 марта 1922 г., говорил: «Реакционные империалистические войны на всех концах мира неизбежны. И забыть то, что десятки миллионов перебиты тогда и будут ещё биты теперь… человечество не может, и оно не забудет» (ПСС, т. 45, стр. 108).
Сталин, партия дали чёткую классовую оценку событий, происходящих в мире после первой мировой войны, в том числе «плану Дауэса», конференции в Локарно и т. д. Сталин подчёркивал, что Германия никогда не смирится с поражением и будет стремиться к реваншу. Более того, Соединённым Штатам, Англии и Франции нужна была Германия для дальнейшей борьбы с Советским Союзом, для предотвращения коммунистического революционного влияния в Европе и в мире.
Экономика Германии пострадала от военных действий, от репарационных поставок и оккупации Рура Францией и Бельгией. Для модернизации производства не хватало средств, тем более что Германия лишилась колоний и не имела внешних источников прибыли.
Но в критический момент крупному германскому капиталу, германскому империализму была оказана помощь. Причём главную роль в этом сыграли американские монополии, стремившиеся нажиться за счёт трудящихся Германии и использовать её в целях войны против СССР. Укрепляя власть капитала в Германии, реакционные круги США стремились превратить её в «антибольшевистский бастион» в Европе. Они сознательно сделали ставку на возрождение военного и экономического могущества германского империализма, как орудия для осуществления своих планов, направленных против первой в мире страны социализма.
Именно этой цели и служил «план Дауэса», утверждённый державами-победительницами в августе 1924 г. и закрепивший ведущую роль США в германском вопросе. Предоставлялись кредиты для возрождения германской экономики и военного потенциала. Подсчитано, что только в 1923–29 гг. Германия получила около 4 млрд. долл. иностранных займов, из них – 2,5 млрд. от США. Оккупация Рура французскими войсками прекращалась. Во главу угла отношений с Германией была положена англо-американская концепция «восстановления германской экономики», что в результате привело не только к подъёму экономики, но и к выходу страны из международной изоляции.
Возрождение тяжёлой промышленности Германии шло на основе новой, наиболее совершенной по тому времени техники и технологии. Германская промышленность по технической оснащённости вскоре превзошла промышленность других капиталистических стран Европы.
Поступления капиталов из-за рубежа способствовало дальнейшей концентрации производства и развитию в Германии системы государственно-монополистического капитализма.
США обеспечили себе большое участие в промышленных предприятиях Германии. Американские монополии стали владельцами либо совладельцами автомобильной фирмы «Опель» и заводов Форда в Германии, электро– и радиофирм «Лоренц» и «Микст-Генест», угольного концерна «Гуго Стинненс», нефтяного концерна «Дойч-американише петролеум», химического концерна «ИГ Фарбениндустри», объединённого «Стального треста» и других промышленных гигантов.
Один из главных авторов «плана Дауэса» – германский финансовый король Шахт, сыгравший впоследствии важную роль в установлении фашистской диктатуры, откровенно признавал, что он «финансировал перевооружение Германии деньгами, принадлежавшими иностранцам». С возрождением Германии в качестве первоклассной индустриальной державы немецкие милитаристы опять обрели промышленную базу для вынашиваемых ими планов новой агрессии («История второй мировой войны», т. 1, стр. 19–21).
Политическим продолжением «плана Дауэса» стала конференция в Локарно (Швейцария, октябрь 1925 г.), в которой участвовали Англия, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Польша, Чехословакия. Она юридически оформила новую политику вчерашних победителей в отношении Германии. Соединённые Штаты из тактических соображений не приняли участие в конференции, но по активности её проведения не уступали ведущей державе – Англии. Эрнст Тельман, лидер германских коммунистов, писал: «Американские банкиры не участвуют в Локарно официально… Но американский финансовый капитал, рассматривающий Европу как большую колонию, из которой он может выкачать чудовищные прибыли, весьма деятельно сотрудничал при осуществлении Локарно» (там же, стр. 38).
Между участниками конференции имелись острейшие разногласия, но их объединяла ненависть к Советскому Союзу, ставшая лейтмотивом всей конференции.
Германия, Бельгия, Франция, Англия и Италия подписали гарантийный пакт, который устанавливал территориальный статус-кво – сохранение в неприкосновенности границ между Германией и Бельгией и Германией и Францией, а также обязывал эти страны не предпринимать друг против друга какого бы то ни было нападения или вторжения, не прибегать к войне. А вот по отношению к Польше и Чехословакии таких международных гарантий не было получено. Польша и Чехословакия подписали с Германией арбитражные договоры, по которым решение всех спорных вопросов передавалось на рассмотрение постоянной согласительной комиссии, составленной из представителей обеих сторон и назначенных ими же представителей третьих государств. Таким образом, западные страны в лице Англии и Франции и стоявшими за их спиной США, толкали Германию к походу на Восток («Drang nach Osten»).
Кроме того, идя навстречу пожеланиям Германии, Англия и Франция и, за кулисами, США приняли обязательство обеспечить вооружение Германии. Следует заметить, что творцы Локарно, министры иностранных дел Германии и Франции Густав Штреземан и Аристид Бриан были удостоены Нобелевской премии мира. Точно также повторяется история и в наши дни, когда 44-й президент США Барак Обама, развязавший многочисленные войны, также удостоен Нобелевской премии мира.
Придя к власти, Гитлер взял курс на отказ от Локарнских соглашений. 7 марта 1936 г. в германское министерство иностранных дел были приглашены послы Англии, Франции, Бельгии и Италии. Здесь гитлеровский министр иностранных дел К. фон Нейрат передал им меморандум германского правительства, гласивший: «В интересах естественного права народа защищать свои границы и сохранять свои средства обороны, германское правительство восстановило с сегодняшнего дня полную и неограниченную суверенность империи в демилитаризованной Рейнской области». Ознакомив послов с содержанием меморандума, Нейрат им сообщил об отказе от Локарнских соглашений и о занятии Рейнской зоны немецкими войсками.
§ 3. Фашизм – порождение империализма и реакции
Вслед за социалистической революцией в России, вспыхнули пролетарские революции в Германии, Венгрии, Словакии. Но они были жестоко подавлены правящими монополистическими кругами этих стран.
Рост революционных настроений в европейских странах, как объективное отражение сложившихся послевоенных социально-экономических условий – всеобщее разорение, разруха, массовая безработица, голод и нищета и т. п., – толкал правящие круги монополистической буржуазии к ужесточению их политики, к самому жестокому подавлению народных протестов и выступлений.
Как реакция на революционизирование масс, начал зарождаться фашизм. Монополистическая буржуазия, опасаясь за судьбу своего классового господства, видела в фашизме ту силу, с помощью которой она сможет расправиться с революционными массами, прежде всего с рабочим классом и его авангардом, коммунистическими партиями, начавшими повсеместно возникать и формироваться после окончания первой мировой войны, под влиянием победы Октябрьской революции в России.
Фашизм всюду опирался на национализм, шовинизм, расизм, а в ряде стран и на реваншизм. Не случайно фашистские диктатуры утвердились именно там, где национальное высокомерие, проповедь ненависти к другим народам больше всего оказывали пагубное влияние на политическую жизнь страны, на настроения широких народных масс.
Фашизм создал себе массовую социальную базу, применяя методы демагогии и обмана. Ложь сопутствовала фашистским диктатурам на протяжении всей их истории, отмеченной преступлениями и кровью. В фашистскую партию шли прислужники контрреволюции: чиновничество, военщина, полицейские агенты и провокаторы, охранники и жандармы. Но не только они составляли социальную базу фашизма. Фашизм сумел опутать своими сетями сравнительно широкие слои мелкой буржуазии и часть рабочих.
Захватывая власть и выполняя социальный заказ крупной монополистической буржуазии, фашисты старались, прежде всего, истребить передовую часть рабочих, их авангард, коммунистические партии и организации.
Обобщая события, происходившие в Италии, V конгресс Коминтерна, состоявшийся в 1924 г., в своей резолюции отметил: «Фашизм является одной из классических форм контрреволюции в период развала капиталистического строя и пролетарской революции – особенно там, где пролетариат, борясь за власть, но не обладая революционным опытом и не имея революционной руководящей классовой партии, не смог организовать пролетарской революции и довести массы до установления пролетарской диктатуры. Фашизм представляет из себя боевое орудие крупной буржуазии в борьбе с пролетариатом… Питательной средой для его корней являются, главным образом, те средние слои буржуазии, которые капиталистический кризис обрекает на гибель, а также элементы, деклассированные войной… отчасти даже некоторые элементы пролетариата, горько разочаровавшиеся в своих надеждах на революцию и озлобленные (выделено мною, Д. И.)». («История второй мировой войны…», т. 1, стр. 57).
В области идеологии и пропаганды единство классовых интересов монополистов проявлялось в том, что кровавые расправы фашистов с их противниками не осуждались, а восхвалялись политическими деятелями и печатью «демократических» государств. Этим же занимался и Ватикан. Папа Пий XI заявил в 1929 г.: «Муссолини ниспослан нам провидением; это человек, свободный от политических предрассудков либерализма» (стр. 55).
Фашистские диктатуры характеризовались слиянием сил монополий, государственной машины, военщины, гангстерских штурмовых отрядов, разбойничьей идеологии в один механизм, направленный против рабочего класса, всех освободительных движений человечества.
Вся политика фашизма, и внутренняя и внешняя, определялась интересами монополий. Именно крупные банки, угольные, стальные, химические и другие крупные монополии оказывали решающее влияние на захватническую агрессивную колонизаторскую политику гитлеровской Германии.
Как отмечает итальянский историк-антифашист Г. Сальвемини, военный министр Италии Бономи в 1920 г. считал, что «следует использовать фашистское наступление для того, чтобы сломить социалистов и коммунистов» и «поэтому позволил руководителям армии снабжать фашистов ружьями и грузовиками и разрешил отставным офицерам и офицерам запаса командовать ими» (стр. 58).
В Германии фашизм вырос в ещё большей мере, чем в Италии, под руководством и заботливой опекой старого режима и особенно военных властей. Его с самого начала поддерживали, финансировали и субсидировали представители крупной буржуазии.
Глава «Стального треста» Ф. Тиссен и глава Рейнско-Вестфальского угольного синдиката Э. Кирдорф убедили руководителей германского рурского капитала согласиться на то, чтобы все угольные и стальные концерны вносили обязательный налог в избирательный фонд национал-социалистов. Во время выборов президента в 1932 г. Тиссен передал национал-социалистам более 3 млн. марок. Без этой помощи гитлеровская агитация 1930–33 гг. не могла бы принять таких фантастических размеров.
В национал-социализме монополистическая буржуазия имела готовое орудие для осуществления своих целей. Нацистская партия давала ей то, в чём она нуждалась больше всего: массовую базу, без которой нельзя держаться у власти, нельзя помышлять о реванше. Германские монополисты мечтали о том времени, когда прекратятся ненавистные забастовки, с улиц исчезнут красные флаги и можно будет без помех приступить к непосредственной подготовке новой мировой войны.
Германский империализм вручил в январе 1933 г. политическую власть гитлеровской партии потому, что видел в ней наиболее пригодный инструмент для осуществления своих планов завоевания мирового господства.
Во многих капиталистических странах руководящая роль переходила к поджигателям войны, самым оголтелым представителям империализма. Но даже в большинстве тех стран, где сохранилась буржуазно-демократическая система, где буржуазия пока ещё могла удерживать власть с помощью методов парламентской демократии, также наблюдалось усиление политической реакции и фашизма.
Правящие круги Англии, Франции, США, других капиталистических стран рассчитывали на то, что война, к которой готовился фашистский блок – Германия, Италия, Япония – будет войной против ненавистного им Советского Союза.
Обобщая опыт классовых боёв в Италии и Германии, где фашисты прорвались (точнее, были приведены крупным капиталом) к власти, классическое определение фашизма дал лидер болгарских коммунистов, выдающийся деятель международного коммунистического и рабочего движения Георгий Димитров в его докладе на VII Конгрессе Коминтерна 2 августа 1935 г. Напомню его:
«Фашизм у власти есть… открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала.
Самая реакционная разновидность фашизма – это фашизм германского типа. Он нагло именует себя национал-социализмом, не имея ничего общего с социализмом. Гитлеровский фашизм – это не только буржуазный национализм. Это звериный шовинизм. Это правительственная система политического бандитизма, система провокаций и пыток в отношении рабочего класса и революционных элементов крестьянства, мелкой буржуазии и интеллигенции. Это средневековое варварство и зверство. Это необузданная агрессия в отношении других народов и стран.
Германский фашизм выступает как ударный кулак международной контрреволюции, как главный поджигатель империалистической войны, как зачинщик крестового похода против Советского Союза, великого отечества трудящихся всего мира…
Фашизм – это власть самого финансового капитала (выделено мною – Д. И.). Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм самой грубейшей формы, культивирующий зоологическую ненависть против других народов».
§ 4. Фашизм в Германии
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. обнажил все противоречия империализма, привёл к небывалому обострению политического положения как внутри капиталистических стран, так и на международной арене.
Промышленность Германии в послевоенные годы стремительно восстанавливалась. К 1929 г. её уровень, по сравнению с довоенным, увеличился в полтора раза. Германия производила почти 12 % мировой промышленной продукции. Происходила стремительная концентрация и централизация капитала. Гигантских размеров достигли крупнейшие германские монополии и банки.
Кризис самым сильным образом ударил по рабочему классу, трудящимся массам страны. Безработица достигла многомиллионных масштабов. В годы кризиса средний заработок немецкого рабочего сократился вдвое, а пособие по безработице едва обеспечивало полуголодное существование самого безработного, не говоря уже о его семье.
В стране нарастал революционный кризис. Забастовки протеста трудящихся самым жестоким образом подавлялись.
Опасаясь революционного взрыва, немецкий финансовый капитал всё более симпатизировал фашистской партии с её антикоммунистической, шовинистической и реваншистской политикой. Немецкие монополисты и банкиры видели в ней орудие расправы с рабочим движением и подготовки страны к агрессивной войне, и стали всё теснее сближаться с гитлеровцами.
Магнаты тяжёлой промышленности Кирдорф, Тиссен, Фёглер, и ранее тесно связанные с нацистами, взяли курс на укрепление этой партии. Поддержку фашистской партии оказывали многочисленные немецкие князья и бароны, крупные землевладельцы, а также иностранные монополисты, например, английский нефтяной магнат Детердинг, американский автомобильный король Форд и другие.
С помощью полученных от крупного капитала средств, нацисты создавали свой разветвлённый партийный аппарат, печатали и распространяли многочисленные газеты и листовки; расширяли деятельность террористических организаций СА и СС, всё более рьяно участвовавших в кровавых расправах с революционным рабочим движением.
Для обмана трудящихся масс фашисты назвали свою партию национал-социалистской и рабочей (Национал-Социалистская германская рабочая партия – НСДАП); своими символами избрали чёрную свастику в белом круге на красном фоне, сохраняя цвета старого имперского флага (белый, чёрный и красный), а красный цвет, кроме того, должен был символизировать «социалистический» и «рабочий» характер партии. Лидер немецких коммунистов Э. Тельман совершенно верно отмечал, что «за их словами «нация» и «социализм» скрывается зверская рожа капиталистов-эксплуататоров» («История второй мировой войны», т. 1, стр. 67).
В 1921 г. национал-социалисты создали полувоенные формирования, названные штурмовыми отрядами – СА. Под руководством офицеров эти отряды очень скоро превратились в большую силу контрреволюции. Они располагали собственной кавалерией, артиллерией, техническим средствами, созданными при помощи рейхсвера и средств финансового капитала.
По характеристике известного немецкого историка Э. Никиша «любой человек с инстинктами убийцы и садиста был в СА на своём месте. Чем более жестоко он себя вёл, тем больше его уважали; здесь можно было вволю быть скотом… В СА получали полную свободу все преступные наклонности. Казармы штурмовиков являлись средоточием всех мыслимых пороков: тунеядцы, пьяницы, жизненные банкроты, громилы, гомосексуалисты, убийцы готовили здесь свои самые тёмные деяния, при помощи которых надлежало «пробудить Германию»» (стр. 68).
Гитлер одел СА в новую коричневую форму, ввёл не военное, а фашистское приветствие; в 1925 г. организовал СС – специальные отряды безопасности для охраны собственной особы и расправы со своими противниками. Его партия продолжала расти. В 1926 г. она насчитывала 17 тыс., в 1927–40, в 1928–100, в 1929–178, в 1930 – около 380 тыс., а к концу 1931 – уже более 800 тыс. человек (стр. 70).
Фашистская партия стала центром притяжения всех реакционных, расистских и антисемитских организаций. Её фанатичный динамизм привлекал как студенческую молодёжь, так и старых солдат, ищущих «героических подвигов в битвах с политическим противниками». Был выдвинут лозунг «Улица – наша траншея». Полиция сквозь пальцы смотрела на деяния фашистских молодчиков.
Гитлеровцы принимали все меры, чтобы заслужить доверие крупного капитала. Так, во время референдума 1926 г. по вопросу, возместить или нет дому Гогенцоллернов и влиятельным князьям стоимость конфискованного у них после Ноябрьской революции имущества, они решительно встали на сторону монархистов. Для объяснения этого, они вновь прибегли к социальной демагогии, заявив, что защищают принцип частной собственности, в сохранение которого, дескать, заинтересованы и ремесленники, и квалифицированные рабочие, и низшие слои гражданских служащих. Буржуазия оценила поведение нацистов в этой важной политической кампании.