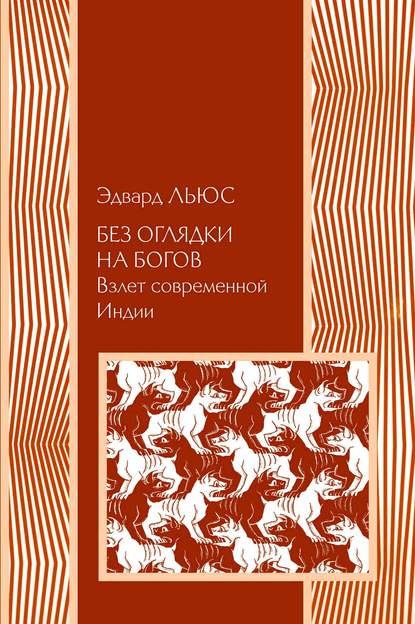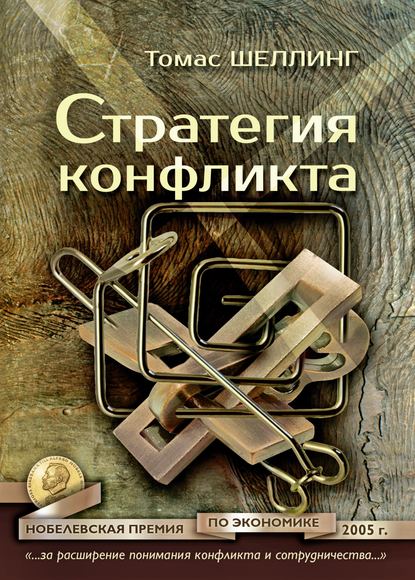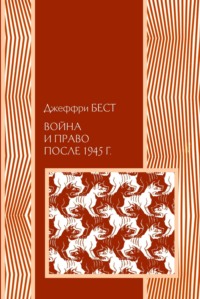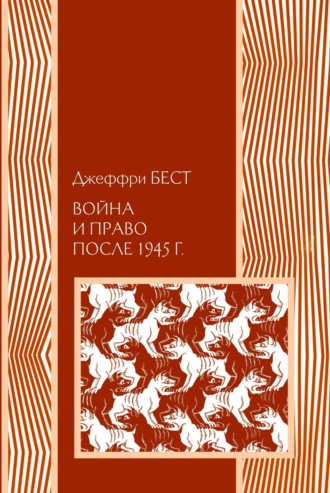
Полная версия
Война и право после 1945 г.
С самого раннего времени, о котором имеются устные и письменные свидетельства, сохранились доказательства того, что те, кто планировал и вел публичные войны, могли восхвалять и одобрять общественные практики, предназначенные для того, чтобы контролировать ведение войны и смягчать ее отвратительные последствия. Правители могли демонстрировать гуманные склонности, и им нравилось, когда другие видели эту демонстрацию. Или же при формулировании целей готовящейся войны они находили для себя выгодным не стремиться к более разрушительным действиям, чем это было необходимо. Священники и прорицатели (даже если не учитывать того, что они принимали определенное участие в формировании мышления правителей) могли резко осуждать уж слишком очевидную бойню или защищать «невинных». Касты воинов насаждали у себя кодексы поведения, которые определяли методы проведения сражений, и эти методы были отчасти направлены на то, чтобы сберегать жизнь – во всяком случае, жизнь таких же воинов. Создатели войск стремились ограничивать потери среди солдат, обучение которых было связано с большими затратами и которым было бы трудно найти замену. Полководцы без труда признавали здравый смысл в том, чтобы не разорять земли, на которых рано или поздно их же армиям придется искать пропитание. И так далее. Склонность к ограничениям и запретам на поведение во время войны можно разглядеть в достаточном количестве ранних цивилизаций и/или культур, созданных родом человеческим, чтобы историк мог рассматривать эту склонность как по сути дела нормальное устремление, практически столь же древнее, как и сама война. И в этом смысле есть основания считать, что попытки нашего поколения развивать эту склонность в конце двадцатого века имеют под собой некую историческую основу.
Все это так. Но за этими попытками стоят также исторические факты многочисленных разочарований в этих устремлениях и провалов подобных же попыток, которые во многих отношениях были ошибочными и иллюзорными. Есть соблазн слишком переоценить их, особенно характерный для тех, кто хочет убедить нас, что неудачи в ограничении конфликтов в наши дни выглядят позорными провалами на фоне прежних успехов. Неудач в прежние времена было не меньше, чем теперь, и по сходным причинам. То поведение, которое правители или жрецы предписывали как наилучшее, имело мало отношения к тому, что армия делала в наихудших ситуациях; а именно в такие ситуации, разумеется, и попадали армии благодаря естественным для войны опасностям и невзгодам, а также зачастую бездарной работе тех, кто планировал военные кампании. Практику применения всех этих похвальных гуманных предписаний в любом случае необходимо подвергнуть критической оценке. В каждом случае нам следует выяснять, какого рода и какого уровня война имелась в виду, когда были выпущены эти предписания. Предписанные и даже принудительно введенные ограничения касались только культурно близкого противника, достойного уважения, но они не имели никакого отношения к тому, что можно было бы ожидать при конфликте с теми, кто воспринимался как варвары, дикари, неверные, недочеловеки и пр.
Кроме того, нельзя не принимать в расчет обстоятельства. Высокие стандарты гуманности и самоограничения соблюдались, когда военная кампания проходила честно и легко, но они рушились, как только дела начинали идти плохо, даже если враг считался достойным уважения. Что касается религии, то призывы к гуманности в военное время, провозглашаемые любой значительной религией, не должны восприниматься как точное описание реальности. Если отставить в сторону то, что в прошлом войны часто велись по религиозным причинам, и то, что войны, рассматриваемые как походы против неверных или священные войны, всегда оказывались в числе наиболее жестоких, нельзя отрицать, что всякая распространенная религия может подобрать тексты, направленные на то, чтобы контролировать действия своих последователей во время войны. Было бы слишком безапелляционным усомниться в той серьезности, с которой эти верующие желали бы вести себя таким образом. Но только представьте себе, из скольких источников выливается в военное время поток нечистот на чистые религиозные идеалы! Помимо обычной запутанной системы конкурирующих или параллельных групповых лояльностей (племенных, расовых, национальных, культурных и т. д.), которую духовные лидеры зачастую распознают или признают с большой неохотой, в вооруженных силах, в особенности в воюющей армии, существуют еще и другие факторы – постоянно присутствующее и сильное давление со стороны боевых товарищей, патриотизм, озверение, трудности и невзгоды, соблазны, страх и исступление. Давно известно, что молот войны самых лучших людей побуждает вести себя наихудшим образом.
Эти предостерегающие замечания по поводу условий соблюдения законов войны как в древности, так и в наши дни не следует понимать в циничном или деструктивном духе. Они просто задают реалистический контекст для моего исследования, относящегося к недавнему прошлому и к современной стадии. Как бы то ни было, очевидно, что исторические факты, свидетельствующие о древности, повсеместности и постоянстве предложений по наложению ограничений на ведение войны, доказывают непреходящую привлекательность (по крайней мере для некоторых частей большинства известных нам обществ) идеи о том, что война, коль скоро с ней нельзя покончить или без нее нельзя обойтись, должна подчиняться этическому и юридическому контролю. В принципе эта идея, применимая равным образом и к конфликтам в рамках государств, и к конфликтам между государствами, естественным образом отражалась в примитивных кодексах отношений между государствами, существовавшими на территории наиболее развитых ранних цивилизаций: в Индии, например, а также в том регионе, который мы теперь называем Индонезией, на Ближнем Востоке, в Греции и Риме, а также в мусульманских странах. Тот все более сложный и детально проработанный кодекс, который эволюционировал в Западной Европе начиная с XV в. pari passu[6] с ее торговой, морской и военной экспансией, основан не на чем другом, как на средиземноморских и европейских источниках. Однако относительная легкость, с которой эта выработанная на региональном уровне модель стала универсальной и превратилась в публичное международное право сегодняшнего мира, объясняется в основном тем, что идеи, заложенные в этот кодекс, не были чужды другим регионам, а также тем, что некоторые из этих регионов уже обладали опытом чего-то подобного[7].
В 1980 г. я опубликовал книгу под названием «Человечество на войне», посвященную общей современной истории той отрасли публичного международного права, которая регулирует именно вопросы войны. Книга была хорошо принята, но, если бы мне пришлось начать сначала, я написал бы ее по-другому. В данной книге – являющейся до определенной степени продолжением предыдущей – я пользуюсь возможностью en passant[8] исправить то, что сейчас воспринимаю как ее недостатки. О некоторых из них писали критики, о других – нет, и не всякая критика была обоснованной. Один популярный писатель-историк, обладая столь ярко выраженным холерическим темпераментом, что, очевидно, не в состоянии был одолеть главы, следующие после первой, (или, пропустив первую, читать дальше), высказал претензии по поводу того, что я начал свой рассказ только с XVIII в. Причина, по которой я так поступил, кажется мне достаточно веской. Рыцарство, честь, дисциплина и самоограничение с незапамятных времен были достаточно распространенными понятиями среди тех, кто размышлял о войне, а древний мир всегда оставался главным источником похвальных примеров, которые все публицисты так любят приводить. Но только в период набравшего силу Просвещения что-то похожее на наше современное международное право войны обрело полноценную форму, получило у философов и публицистов соответствующее литературное отражение и стало присутствовать в общих рассуждениях правящих элит всей системы европейских государств.
Более справедливо меня упрекали в евроцентричности. Книга действительно такова в большей степени, чем я считаю обоснованным сегодня. Невозможно обойти тот факт, что основная часть права, уже сформировавшегося ко времени Второй мировой войны, была целиком европейской или (что в данном случае с культурной точки зрения во многом одно и то же) американской. Но когда речь зашла о том, как это право применялось, я слишком сильно сосредоточился на войнах, которые вели между собой европейцы и североамериканцы, и почти не уделил внимание войнам, сопровождавшим имперскую и колониальную экспансию этих стран. Возможно также, что я был неправ, не уделив внимания войнам в Африке и Азии, которые велись без участия европейцев. Этот недостаток, в той степени, в какой он являлся таковым, исправлен в данной книге. Практически все вооруженные конфликты, освещенные во второй части, происходили в «менее развитых» частях мира. Международное право войны, противоречивый опыт применения которого в этих регионах стал целью этой книги, больше не является исключительно европейским и американским продуктом, и это делает данное исследование подлинно международным по своему характеру в соответствии с международным характером его объекта.
Более достойна сожаления, хотя и вполне объяснима скудость освещения в той книге периода после 1945 г. Будучи в то время преподавателем истории, а не международных отношений, я тогда еще не слишком интересовался современным периодом. Трем мировым войнам (считая первой войну 1792–1815 гг., каковой она и являлась) я уделил такое внимание, в котором отказывал мировым конфликтам нашего времени и сопровождающим их исключительным политическим обстоятельствам. Подобно большинству авторов того времени, я не замечал растущей важности нового международного права в сфере прав человека и чрезмерно полагался на благоприятные перспективы Дополнительных протоколов 1977 г. Если я в чем-то сомневался, то, можно так выразиться, предпочитал хранить верность женевской версии этого сюжета, вместо того чтобы остановиться и подумать, а не могло ли там быть чего-то еще, о чем можно сказать. Будучи неоправданно оптимистичным в отношении одних деталей современной картины и излишне пессимистичным в отношении других, во время написания книги я только начал ощущать то, что впоследствии отчетливо осознал, а именно что я стал терять чувство перспективы и направления, которыми руководствовался при написании начальных глав. То, что я написал в них, полностью выдержало испытание временем. Тем не менее я изменил свое мнение по некоторым вопросам, таким как роль Руссо в развитии этого сюжета или значение Петербургской декларации, и, полагаю, могу теперь лучше распознавать наиболее значимые события и явления. Таким образом, часть книги, которую читатель держит в руках, до определенной степени представляет собой, с одной стороны, пересмотр, а с другой стороны, квинтэссенцию того, что я написал четырнадцать лет назад.
Jus ad bellum и jus in bello начиная с XVII в
Праву войны как явлению, получившему свое развитие в европейской истории и атлантической цивилизации, начиная с конца XVII в. и до рубежа XX в., свойственны все признаки «истории успеха». Война оставалась почтенным и, согласно самым авторитетным оценкам, необходимым элементом международных отношений, но связанные с ней риски осознавались все лучше, а попытки избежать войны (посредством давления со стороны великих держав или, что не всегда означало одно и то же, посредством рассмотрения спора в третейском суде) часто увенчивались успехом. Когда же война все-таки начиналась, сражения на деле становились все более смертоносны для участвующих в них армий, однако прогресс медицины, с одной стороны, и мода на гуманитарную деятельность – с другой, сделали наконец свое дело и восстановили равновесие. Соответственно и гражданское население, судя по всему, страдало в меньшей степени, чем раньше. Политическая наука считает Международный Комитет Красного Креста (созданный, хотя и под другим названием, в 1863 г.) величайшей из первых НПО. Новую страницу в военном разделе истории международного права открыли Женевская конвенция 1864 г. (первый многосторонний гуманитарный договор) и Санкт-Петербургская декларация 1868 г. (первый договор об ограничении вооружений). Знаменитая Конференция мира и разоружения, созванная в Гааге в 1899 г., стала предвестником явлений, доселе неведомых. Прогресс, который быстро почувствовали мужчины XIX в.(не могу быть уверен насчет женщин) в переменах, происходивших вокруг, ощущался и в этой области. Войны, возможно, и становились все более тяжелыми, но, по общему признанию, они происходили реже и продолжались не так долго. Уже не казалось невозможным, что буржуазная цивилизация даже в столь важной сфере сможет угнаться сразу за двумя зайцами.
Вскоре оказалось, что это заблуждение, и нетрудно понять причину ошибки. Развитие в XVIII и XIX в. международного права войны – факт сам по себе замечательный и достойный восхищения – оказалось однобоким. Покинув на своем предшествующем важном этапе монастыри и университеты и переместившись в суды и конторы, оно увенчалось в 1625 г. трудом Гроция «De Jure Belli ac Pacis», но продолжало двигаться колеей, проложенной с самого начала. Его предметом были в равной степени причины войны и само ведение войны; говоря уместным здесь техническим языком науки jus ad bellum, в той же степени, что и jus in bello. Во времена Гроция оно много уделяло внимания вопросу о том, как люди должны вести себя во время сражения, но в то же время продолжало серьезно заниматься вопросом о том, должны ли они вообще сражаться. Правомерность ведения войны все так же была предметом права войны и мира, как и правомерность того или иного образа действий во время войны.
Но однобокость уже начинала проявляться. В бесконечных рассуждениях о jus ad bellum был некоторый смысл в предшествующие века, когда носители политической власти в Европе оставались в рамках единого христианского мира и папский престол был в состоянии выступать в качестве всеобщей юрисдикции. Когда к XVI в. прежнее единство распалось, и вдобавок главы государств, независимо от того, сопротивлялись они Риму или сохраняли верность ему, заговорили на новом политическом языке верховной власти – независимой, автономной и почти всегда основанной на божественном праве королей – все эти рассуждения стали приобретать все более теоретический характер. Новые представления о власти не всегда подразумевали абсолютно неподотчетную власть. Политические теоретики вскоре начали обсуждать вопрос о том, являются ли правители ответственными только перед Богом или же перед народом – а от последнего утверждения не так далеко и до современной доктрины народного суверенитета. Но, куда бы ни заводили политические дискуссии о главе государства, национальное государство было самостоятельным, решение о том, участвовать в войне или нет, считалось его собственным делом и принималось в свете его собственного понимания национальных интересов и степени уважения этого государства к стандартам, задаваемым его цивилизацией (эта степень, разумеется, могла быть весьма высокой).
Признание факта происшедших изменений в течение долгого времени было затруднено тем, что по-прежнему употреблялся старый язык jus ad bellum. Он считался полезным для представления наиболее жестких аспектов государственной политики в благоприятном свете, но к реальному миру он едва ли был приложим. Идея верховной власти, которая могла бы судить деяния национальных правителей или правительств, утеряла связь с реальными институтами, которая прежде придавала ей убедительность. Дольше всего эта идея держалась в юридических и политических текстах, но в конце концов исчезла и оттуда. После периода призрачного существования между жизнью и смертью эта идея впала в длительную спячку, из которой вышла, только когда универсальная юрисдикция снова стала темой, которую государственные деятели могли обсуждать, не боясь показаться эксцентричными или нелепыми, т. е. после 1900 г.
Однако неверно считать, что эта история была лишь историей неудачи. В то время как jus ad bellum засохло на корню, jus in bello расцвело, как вечнозеленый лавр. Можно было бы подумать, что здесь сработал какой-то таинственный закон компенсации, но на самом деле все было гораздо проще. Европейская политическая система и стандарты менялись, но общая для всех европейских стран культура осталась нетронутой – я здесь имею в виду культуру в широком смысле, культуру элит, которые управляли государствами Европы, поддерживали соответствующие социальные стандарты и командовали европейскими вооруженными силами. Через эти элиты распространялись общие представления и благодаря им появлялась способность к взаимному признанию, которая умеряла естественную силу национальных и региональных привязанностей. В особенности, разумеется, это относилось к титулованной аристократии, наиболее просвещенные члены которой могли быть вполне космополитичны. Но в той или иной степени это относилось и к профессиональным классам, которые во многом перенимали стиль жизни у аристократов, и если были религиозны, то едва ли могли быть кем-то, кроме как христианами. И образование этих классов, насколько оно вообще у них имелось, основывалось на той же самой латинской и греческой классике. В особенности это относилось к военной профессии, представители которой были вдобавок связаны между собой исключительно прочными узами кодекса военной чести. Среди них, более чем среди всех других, было распространено чувство общих ценностей и взаимного уважения, особенно необходимого для соблюдения неписаных правил достойного и благородного поведения.
Таким образом, неудивительно, что jus in bello должно было расцвести в Европе XVIII–XIX вв. в достаточной степени, что о нем стало известно и сформировалось положительное отношение к нему. Для офицеров, на которых почти исключительно лежала ответственность за его соблюдение, оно было просто частью их профессиональной этики и образом жизни. Об основных его принципах можно было узнать из простых пособий по военной науке, более серьезные знания все шире предоставляли ученые мужи, которые к началу XIX в. приблизились к тому, чтобы называться юристами по международному праву. По большей же части законы и обычаи войны молодой офицер постигал на службе, разделяя со старшими их образ мыслей и действий. Не следует думать, что изменения, которые эти законы и обычаи привнесли в практику военных действий, имели более чем эпизодическое и ограниченное влияние. В частности, к самовосхвалениям эпохи Просвещения нужно относиться с большой осторожностью. Война отнюдь не стала по чудесному мановению руки гуманной деятельностью[9]. Простые солдаты, большинство которых вышли из слоев, весьма отличных от офицерской среды, продолжали поступать так, как всегда поступали с врагами и мирным населением, оказавшимся поблизости от пути их следования или стоянки. Преднамеренная жестокость и бессмысленные зверства как происходили раньше, так и продолжали происходить. Но они стали получать огласку и их начали порицать, чего, в общем, не наблюдалось в прежние времена. Стремление снизить масштаб жестокостей было подлинным, и к концу XVIII в. оно приобрело заметный размах. Уже сформировалось сообщество заинтересованной публики для обсуждения и дискуссий по поводу применения принципов права в конкретных случаях, эти принципы уже стали считаться само собой разумеющимися, а их основа содержалась в самой культуре общества, а не только в его правовой надстройке. Никогда, вплоть до конца XIX в., не требовалось упоминать того рода договоры, ссылками на которые наполнены современные учебники по данному предмету (впрочем, и в конце XIX в. не было большой необходимости в таких ссылках). В тот год, когда был заключен первый такой договор, один английский эксперт, не лишенный дара предвидения, написал: «Всегда следует иметь в виду, что позитивные законы войны, как и законы чести или этикета, создаются практикой их употребления, хотя опираются на разум и выгоду, – они продолжают существовать благодаря силе традиции и отмирают по мере устаревания»[10].
Но в красном яблочке уже завелся червячок. Со временем выяснилось, что jus in bello само по себе, с договорами или без них, не может набрать силу и стать достаточно универсальным, чтобы удерживать войну в тех рамках, которые порядочные люди могли бы назвать приемлемыми. Те офицеры и джентльмены, которые в целом серьезно воспринимали законы войны и положительно относились к идее минимизировать приносимое ею зло, на деле были ограничены некой рукой, которую не могли видеть так ясно, как ту, которую они видели. Та рука, которую они видели отчетливо, – это рука принципа. А другая рука, существование которой они едва ли осознавали, – это рука технологии. Находящиеся в их распоряжении средства для нанесения ран, увечья и убийства, какими бы мощными они ни казались в то время, по более поздним меркам были слабыми, близкодействующими и неточными. То, что они могли бы сделать, будь у них для этого средства (оружие, живая сила, мобильность), становится ясно из строк о законности и приличии, которыми пестрят страницы военной истории XVIII–XIX вв. Количество и частота этих строк свидетельствуют не о слабости права войны, а о его силе, не о невежестве, а об осведомленности. Принципы законов и обычаев войны вызывали всеобщее восхищение, но их применение к конкретным случаям было делом, по поводу которого разные люди могли иметь разное мнение. Явные нарушения закона беспокоили людей именно потому, что они столь высоко ценили его. Ни один признанный герой войны либо ученый муж не отзывался о праве войны с пренебрежением. Революционные голоса то там, то тут высказывались подобным образом, но французские армии 1790-х годов на практике пришли к тому, что стали вести себя в общем и целом так же, как и все остальные. Наполеон был приверженцем этого закона. Резкие формулировки Клаузевица по поводу взрывоопасной непредсказуемости войны и ее жестких условий были направлены не против принципов рыцарства и гуманности – сам он был образцом этих добродетелей, – но против наивных романтиков, которые хотели вывести войну из истории: закоснелых доктринеров, которые считали, что войну можно вести по сборникам правил, и сентименталистов, которые думали, что войну можно вести в лайковых перчатках. «Мы должны усвоить себе тот взгляд, – напоминал он им, – что получаемый войной облик вытекает из господствующих в данный момент идей, чувств и отношений»[11].
В действительности каждый человек, обладающий реальным опытом участия в активных военных действиях, понимает две вещи: во-первых, что законы и обычаи могут соблюдаться только в зависимости от обстоятельств, и, во-вторых, что при столкновении закона и военной необходимости именно закон будет приспосабливаться к необходимости. Приспособиться – не значит быть разрушенным. Каждый раз, когда случается что-то особенно отвратительное или есть угроза этого, оказываются оскорблены человеческие чувства и немедленно происходит апелляция к принципу; но за рамками неприкосновенных абсолютных запретов и ограничений (которых сравнительно мало и которые в любом случае ощущаются отдельными людьми, а не группами) принцип не всегда легко привязать исключительно к одной стороне в споре. Люди чести относятся к нормам личного поведения как к чему-то незыблемому, но стратегия и тактика, а также тесно связанное с ними групповое поведение – это нечто совсем иное, и в эту сферу жесткие концепции чести и порядочности не могут быть перенесены напрямую. Принцип, который, если посмотреть на него с одного угла зрения, как будто осуждает действия на войне, без него осуществимые и успешные, выглядит менее запрещающим, если посмотреть на него с другого угла. Поясню это на нескольких примерах.
Даже принцип чести и самоуважения – квазирелигия всякого уважающего себя офицера – не свободен от силы обстоятельств. Во-первых, вмешиваются национальные предрассудки, которые сами по себе имеют определенную градацию. Ксенофобы вроде Нельсона и снобы вроде Веллингтона, как бы щепетильны они ни были в своем отношении к пленным французским офицерам, не слишком склонны были признавать последних джентльменами. Веллингтон как-то заметил: «Французский офицер перережет вам горло, если вы скажете ему, что он не джентльмен, но это не сделает его таковым»[12]. Но еще ниже британские офицеры ставили испанцев, вообще говоря, их союзников, – настолько ниже, что после битвы при Витории в 1813 г. они ходили по городу рука об руку с французскими пленными, с которыми делили стол, но с исключительным пренебрежением относились к испанцам. Что же касается негибкости, то интересно было бы узнать, оставалась ли честь незатронутой в таких вечно актуальных эпизодах, как тот, который был отражен Жаном Ренуаром в фильме «La Grande Illusion» 1937 г., посвященном Первой мировой войне. Немецкий аристократ, комендант тюрьмы, где содержатся французские офицеры, говорит французскому офицеру высокого ранга (тоже аристократу), что прекратит обыск камеры, если тот даст честное слово, что в ней не спрятаны орудия побега. Французский офицер дал такое обещание, но побег тем не менее состоялся. Веревка была спрятана не в камере – она висела снаружи, за окном.