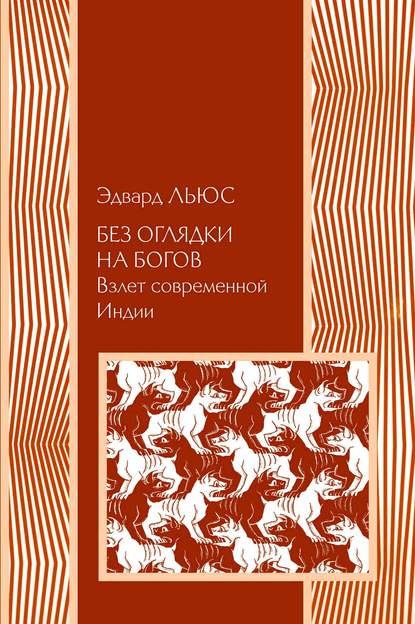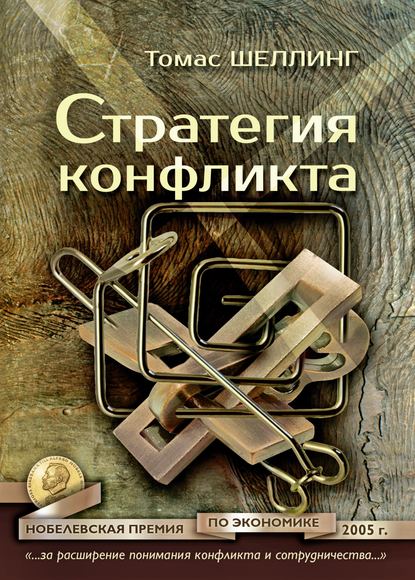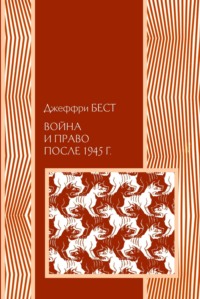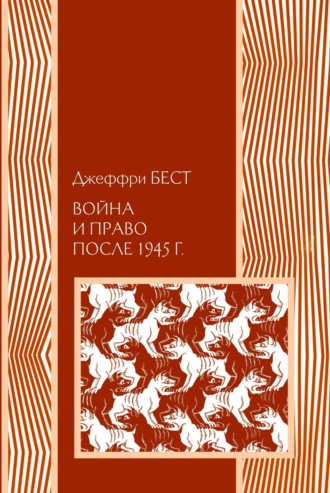
Полная версия
Война и право после 1945 г.
Эту слабость права невозможно отрицать, но она далеко не так разрушительна, как легко можно было бы предположить, наблюдая за действиями международного сообщества со стороны. Очевидные и демонстративные нарушения сравнительно редки. Государства по большей части соблюдают нормы права, причем бóльшую часть этих норм соблюдают всегда, потому, что считают, что это удобно, выгодно и полезно. Международное право – нормальный и устойчивый ориентир для осуществления отношений между государствами, когда они находятся в состоянии «мира» друг с другом. Практика государств – один из его основных источников, и поэтому неудивительно, что одна из его основных функций состоит в том, чтобы помогать государствам в этой практике.
Подобные правила и обычаи в многочисленном и разнородном сообществе требуют от его членов изрядных способностей к компромиссу. Государствам не всегда приятны непосредственные результаты выполнения ими своих обязательств, но в целом они эти обязательства чтят. Государства, которые выбирают, какие правила выполнять, а какие нет, рискуют заработать плохую репутацию и рано или поздно будут страдать от последствий своего подхода. Они могут, в силу своего положения сверхдержавы или по причине особого эгоизма, от безысходности или из-за одержимости идеологией, решить в отдельных случаях не обращать внимания на осуждение их действий и принять бремя последствий. Тут немедленно приходят на ум всевозможные примеры из истории последних нескольких десятилетий, не говоря уже о печально известных случаях нарушения норм, относящихся к сфере прав человека, – стандартной практике во многих странах, а в определенной степени – и в большинстве стран. Небеса не обрушились на вершителей этих сознательных беззаконий или внеправовых мер (если интерпретировать действия некоторых из них максимально благоприятным образом). Нарушители и извратители права, как говорится, вышли сухими из воды. Но усилия, предпринятые почти всеми государственными инстанциями с целью создать юридическое (или, во всяком случае, выглядящее юридическим) оправдание и извинение осуждаемых деяний как происшедших в порядке исключения, говорят красноречивее всяких слов. Ни одно государство не отрицает достоинств идеи международного права, и отдельные нарушения существующей системы, которые государства допускают в порядке исключения, не обязательно следует воспринимать как движение в сторону демонтажа системы международного права как таковой. Государства, которые слишком фамильярно обращаются с этой системой, тем не менее предполагают, что, невзирая на их действия, сама система уцелеет и продолжит существование: допущение, очевидно, не лишенное зерна истины, хотя можно вполне обоснованно задать вопрос, как долго система сможет выдерживать подобные испытания на прочность.
Следующая линия атаки скептика непосредственно проистекает из последнего соображения. По-прежнему склонный заклеймить правовую систему, в которой отсутствует суверенное право принуждения, как фиктивную, он возобновляет атаку, сравнивая эту так называемую международную систему с тем, что он считает, наоборот, настоящей правовой системой – т. е. с национальной правовой системой. Вот она-то реальна и достойна уважения, говорит он, потому, что национальная система едина и внутренне согласованна. Она представляет собой пирамиду или вертикаль инстанций, облеченных суверенной властью, способную заставить закон работать и гарантировать, что нарушитель закона понесет наказание. Все, что не дотягивает до этого, утверждает скептик, не заслуживает великой чести именоваться правом.
Этот довод звучит внушительно, но его предпосылки ложны. Описание национальной системы права носит идеализированный характер, в реальности едва ли узнаваемый. Это политические и правовые теоретики хотят, чтобы мы верили в то, что национальные правовые системы устроены именно так, как описано выше, а не так, как они выглядят на деле. Много ли на свете есть стран, в которых каждый подданный или гражданин повинуется всем законам, а каждый акт непослушания неизбежно распознается и наказывается? Нет, и сама идея такой страны, между прочим, может породить вопрос о том, было ли бы приятно жить в такой стране. В то же время существует немало стран, как приятных, так и неприятных для жизни, где многие законы постоянно нарушаются, где равенство всех перед законом – это дурная шутка и где нарушители редко призываются к ответу. Если же обсуждение дойдет до того, что будет замечено, что игнорирование права и пренебрежение им, доведенные до определенного уровня допустимости (который варьируется в зависимости от места), сводят на нет претензии государства на уважение (поскольку оно не может сделать то, для чего вообще существуют государства), ответ может быть только один: государства с такой позорной репутацией тем не менее обычно продолжают считаться членами международного сообщества, хотя и встречают в той или иной степени холодный прием. И очень трудно сказать с определенностью, соблюдается ли международное право в своей области применения хуже, чем национальное право в юрисдикции некоторых государств с дурной репутацией, о которых, несомненно, уже вспомнил читатель.
Различия между правовыми системами государств и межгосударственной правовой системой, безусловно, имеют намного большее значение, чем их сходство. Их сопоставление в предыдущем абзаце было проведено лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, что, каковы бы ни были недостатки последней, их нельзя использовать как основание для того, чтобы осудить ее, не осуждая также неявным образом многие недостатки первых. Но одно из явных различий между двумя системами требует вдумчивых комментариев, потому, что представляет собой одну из наиболее специфических характеристик международного права. Значительная часть международного права в наши дни, не в последнюю очередь в гуманитарной сфере и в сфере защиты прав человека, особенно там, где задействована Генеральная Ассамблея ООН, носит «нормативный» характер. «Нормативный» – значит устанавливающий стандарт, добавляющий к существующей государственной практике желаемую идею государственной практики, как ее хотят, намереваются или надеются видеть когда-нибудь в будущем. Обычный человек, возможно, сочтет неудобным то, что великое слово «Право» теперь может применяться в двух разных смыслах, а именно: то, что соблюдается и подкрепляется санкцией здесь и сейчас, и то, что должно соблюдаться и подкрепляться санкцией в будущем – в том будущем, к которому следует стремиться. Экспертное сообщество в сфере международных отношений попыталось как-то справиться с этим расщеплением понятий, придумав два вида права: «жесткое» и «мягкое», разница между которыми состоит в том, что если в первом случае в настоящее время существует определенная возможность наказывать за нарушения правовой нормы, то во втором случае такая возможность отсутствует. И если все тот же скептик, упорно желая продолжать препирательства, подводит обычного человека к выводу, что «мягкое право» – это не то, к чему он привык в собственной стране, ответ обоим опять-таки состоит в том, что национальное законодательство, возможно, на самом деле имеет не столь уж единообразно «жесткую» консистенцию, как любят заявлять политические теоретики и пропагандисты. Британец, например, едва ли обнаружит большую жесткость в законодательстве, когда речь идет о регулировании скорости на дорогах и трезвости водителей в его стране, о собаках, гадящих на тротуарах и в общественных парках, и об использовании наушников, в которых так грохочет музыка, что это не может не раздражать пассажиров в поездах и автобусах. Поле международного права не единственное, в котором возможность устанавливать стандарты превращает законодателей в мечтателей.
С точки зрения своих источников международное право и национальное право имеют минимум общего. Во всяком случае, в национальных правовых системах власть суверена, о котором говорят теоретики, является более или менее неоспоримой, что позволяет ясно видеть, откуда проистекает право и как оно создается. Законодательный орган или законодательная ветвь власти присутствует как составляющая в любой конституции. Но источники международного права намного более сложны для понимания и запутанны, главным образом потому, что слишком многие из них взаимно перекрываются. Один из этих источников – уже упомянутая государственная практика. Процедуры и устоявшиеся обычаи, которые государства в целом находят настолько полезными во взаимодействии друг с другом, что они становятся формализованными и привычными, имеют тенденцию превращаться в обычное право. Еще глубже, нежели основы обычного права, находятся определенные общие или фундаментальные принципы, например «элементарные соображения гуманности»[3]. Некоторые наиболее фундаментальные из них относятся, по мнению некоторых экспертов, к jus cogens, т. е. «императивным нормам», которые не могут быть предметом споров (тем не менее о них спорят!). Формальные договоренности и соглашения между государствами (по вопросам, которые, кстати, могут уже быть заложены в обычном праве) фиксируются в пактах, конвенциях и уставах, а также, как это становится все более явным на протяжении жизни последнего поколения, в формах, носящих намного менее внушительные названия, такие как договор и соглашение. Международное право, сформированное таким образом, обычно называется «конвенционное право», что звучит непонятно для обычного человека, естественно склонного думать, что конвенционное означает обычное. Он, вероятно, впадет в еще большее недоумение, услышав, что «конвенционное право» (в некоторой части), принятое почти всеми государствами на протяжении некоторого весьма значительного времени, может действительно стать «обычным правом». Так, например, Международный военный трибунал и другие военные трибуналы после Второй мировой войны стали считать, что это имело место в отношении по крайней мере части норм IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны и Конвенции об обращении с военнопленными 1929 г.[4]
Таковы различные источники, из которых проистекает международное публичное право – известное и под более полным названием «международное право мира, войны и нейтралитета», – и те пути, которыми оно проходит: «Грандиозный лабиринт, но не лишенный плана». План – это желание и воля государств, направленные на то, чтобы свод норм, который эти государства породили или которому позволили появиться на свет, выполнял свое предназначение: облегчать и смягчать отношения между ними не только в условиях мира (т. е. предположительно в условиях их нормальных взаимоотношений), но и в состоянии войны, которое политическая теория в целом рассматривает как наименее обычное состояние дел и которое, таким образом, если оно умеряется правом, не станет, как можно надеяться, чем-то большим, чем кратковременная гроза в нормальных отношениях государств.
Идея верховенства права в международных отношениях относится к войне в той же мере, что и к миру, а в международном праве войны эта идея обретает плоть. Наш скептик может здесь снова вмешаться в разговор. Он заявит, что эта отрасль международного права, каковы бы ни были ее временные и ограниченные успехи, в конечном счете не что иное, как маскировка и жульничество; не поразительное и парадоксальное достижение цивилизации, как его иногда представляют, а скорее удобный инструмент, с помощью которого некоторые теоретики цивилизации набрасывают вуаль благопристойности на ужасные черты неумолимого чудовища, поскольку успех этой цивилизации, по-видимому, неотделим от его успеха. В данном случае скептику гораздо труднее возразить. Право войны никогда не действовало так же эффективно, как по большей части действует право мира. Разумный цивилизованный человек, понимающий, что такое война, и не ожидает ничего другого. Он будет удовлетворен тем, что есть, потому что это меньшее из зол; по крайней мере это лучше, чем ничего. В истории права войны были свои взлеты и падения. В период взлетов – в определенные относительно счастливые времена, в удачных местах и эпизодах – оно достигало большего, чем может допустить скептик. Оно продемонстрировало, что вполне может приблизиться к состоянию, соответствующему цивилизованному представлению о нем. Но вопросы о том, можно ли утверждать, что эти взлеты в совокупности перевешивают падения, и могут ли падения быть столь продолжительными и ужасающими, чтобы эффективно продемонстрировать несостоятельность самой идеи и показать, что вера в право войны не есть лучше, чем ничего, – эти вопросы скептик по-прежнему вправе задавать, поскольку ни историк, ни любой другой ученый не может с уверенностью ответить на них. Лучшее, что каждый из нас может сделать, – это черпать информацию у историков и социологов, которые изучают причины вооруженных конфликтов и все то, что происходит во время них; пытаться выделить те культурные и политические обстоятельства, которые минимизируют, а не максимизируют риски и бедствия, связанные с вооруженными конфликтами; основываясь на этом знании, поощрять и поддерживать такую политику в собственном государстве и других государствах, находящихся в пределах досягаемости, которая рассчитана на то, чтобы привести к созданию таких обстоятельств; и быть готовым нести бремя непопулярности, ибо она, очевидно, должна быть решительной и жесткой.
Цели, методы и рамки этой книги
Моя цель и моя надежда при написании этой книги состояли в том, что ее тема заинтересует представителей разных сфер человеческой деятельности, таких как политика, история, этика, военная наука и право. Я хотел бы объяснить этим разным заинтересованным группам, а также широкому кругу читателей, в эти группы не попадающих, что они смогут извлечь из нее – и соответственно чего не смогут.
В мире, в котором новости о вооруженных конфликтах приходят каждый день, а комментарии по их поводу зачастую основываются на предположении об их беззаконном, внеправовом характере, нет нужды специально разъяснять значимость книги, посвященной тем аспектам международного права, которые предназначены ограничивать насилие во время войн, защищать жертвы этого насилия и помогать им в беде. Нельзя сказать, что книг на эту тему выходит мало. Международное право войны, или гуманитарное право, превратилось в отрасль права, переживающую своего рода бум, и в этой сфере появилось множество профессиональных экспертов. Однако манера, в которой эти эксперты пишут и дискутируют между собой, далеко не всегда непосредственно доступна для прочих людей, также живо интересующихся предметом, при этом некоторые из этих последних также все больше пишут и обсуждают его, сознавая при этом, что помимо правовых экспертов, с которыми они, возможно к счастью, имеют контакт, есть многие другие, от общения с которыми они отрезаны.
Я начинал свою профессиональную деятельность как историк, главным образом британской религии и культуры. Заинтересовавшись этикой и социологией войны, я в середине своей карьеры перешел от национальной истории к международной и от гражданских вопросов к военным, занялся историей и современным положением права войны и изучением деятельности его институтов и в конце концов пришел к выводу, что лучшее основание, исходя из которого я могу завершить свою работу и написать эту книгу, – это отрасль исследований, обобщенно именуемая международными отношениями. С представителями этой отрасли я с успехом взаимодействовал в последние десять лет в Лондонской школе экономики и Оксфорде. Если эта книга окажется смесью фрагментов всех так называемых академических дисциплин, с которыми я имел дело за последние сорок лет, то это неизбежный результат того, по какому пути двигалось мое мышление. Мне пришлось следовать туда, куда вели соответствующие аргументы, и я действительно считаю, что адекватная оценка важности международного гуманитарного права для всего мира, понимание того, как оно стало частью того, что мы считаем цивилизацией, и того, до какой степени цивилизация от него зависит, в принципе требует привлечения всех дисциплин и заинтересованных исследователей. Предмет содержит в себе слишком много крови и слишком связан с будущим всего человечества, чтобы его можно было без опасения отдать на попечение какой-либо из тех нескольких заинтересованных сторон, которые на него претендуют. Но о том, удалось ли мне соединить их, могут судить лишь мои критики (надеюсь, они не слишком поддадутся сектантскому духу)[5].
Однако к одной группе читателей я должен обратиться с предупреждением, что эта книга, будучи неправильно понятой, может подставить под серьезный удар их профессиональную состоятельность. Я говорю о студентах юридических факультетов. Надеюсь, многие из них все-таки прочитают ее и отдадут должное моим объяснениям того, каким образом этот важнейший предмет их обучения стал тем, чем он стал, что еще, помимо права, повлияло на его формирование и как он функционирует в рамках политической жизни международного сообщества. Но я не юрист и не обязан думать о праве так, как обязаны думать юристы, и не пытаюсь писать о нем так, как пишут они. Например, когда я пишу о практике «конвенциональной» (conventional), я имею в виду традиционную, т. е. обычную, «всегдашнюю» практику, а не употребляю это слово в международно-правовом смысле, т. е. в смысле практики, происходящей от конвенции (договора). Аспекты права, которые представляются важными для хода моего исследования и повествования, не обязательно совпадают с теми, которые должны быть важны в юридическом толковании и обсуждении. Точно так же, создавая этот текст именно с такими целями и в таких рамках, я не претендую на такую полноту охвата темы, какую мог бы обеспечить профессиональный эксперт. Всякий, кто воспользуется этой книгой для подготовки к университетскому экзамену по международному праву войны и мира, тем самым будет напрашиваться на неприятности!
Терминология и принятые сокращения
Говоря о предмете этой книги, я не стремился к безукоризненной последовательности в наименовании основного объекта моих исследований, так как на протяжении тех лет, когда я писал книгу, принятая терминология изменялась и я допускал соответствующие изменения в названии. К концу девятнадцатого века в англоговорящем мире предмет моих исследований получил известность под именем «право войны» [law of war] или какими-то похожими наименованиями, например «законы и обычаи войны» [laws and customs of war] или «международное право войны и мира» [international law of war and peace]. В Германии и Франции, где вышла большая часть трудов на эту тему, предмет назывался соответственно Kriegsrecht и Droit de la guerre. Среди представителей прошлого поколения, по причинам, объясняемым в свой черед, в моду вошло смягчать наименования; таким образом «война» стала называться «вооруженным конфликтом», и было введено слово «гуманитарный». Мой высокоуважаемый коллега Адам Робертс, профессор международных отношений в Оксфорде и выдающийся эксперт в вопросах, рассматриваемых в данной книге, обладает более решительным характером и продолжает во втором издании сборника документов, соредактором которого он выступил, называть этот предмет «законами войны» [laws of war]. В другом стандартном сборнике, составленном швейцарскими экспертами Шиндлером и Томаном, они называются «законы вооруженных конфликтов» [laws of armed conflicts]. В объемистых сборниках статей (известных также как Festschriften), недавно выпущенных в честь двух самых выдающихся светил в этой области, Жана Пикте и Фрица Калсховена, употребляется термин «(международное) гуманитарное право вооруженных конфликтов» [(international) humanitarian law of armed conflicts]. Сегодня многие укорачивают его удобства ради до «гуманитарного права». Меня самого не очень привлекает эта новомодная терминология по причинам, которые станут ясны из изложенного ниже, но я понимаю, почему она появилась, и очень беспокоюсь о том, чтобы не создать препятствий ее приверженцам при прочтении этой книги, поскольку ее предмет для них не менее важен, чем для меня. Поэтому я позволил «праву войны», или «законам войны», о которых идет речь в первой части книги, превратиться в «международное гуманитарное право» во второй. Но при таком количестве перекрестных ссылок неизбежны некоторые несоответствия, за что я приношу извинения тем, кого они будут раздражать.
Вместо труднопроизносимого словосочетания «международное гуманитарное право» я систематически использую аббревиатуру МГП. В книге будут и другие сокращения, позволяющие сэкономить место, поэтому будет уместно привести их здесь как часть краткого описания основных линий в истории предмета. Правовыми инструментами, создавшими основу МГП, с 1864 г. являлись Женевские конвенции, или ЖК. Последние и существующие на данный момент ЖК датируются 1949 г., третья из них имеет дело с военнопленными (POW). Существуют также Гаагские конвенции от 1899 и 1907 г. и законы и обычаи сухопутной войны как приложение к IV Гаагской конвенции 1907 г. (термины не сокращаются). С 1977 г. существуют два дополнительных протокола к Женевской конвенции ДПI и ДПII. Эти протоколы сами по себе плод работы знаменитой конференции 1974–1977 гг., которая упоминается в книге как CDDH, общепринятая аббревиатура от Geneva Conférence Diplomatique sur la Réaffirmation et le Développment du Droit International Humanitaire applicable dans les Conflits Armés. Наиболее важные для МГП институты – это различные элементы того, что теперь называется собственным именем «Движение Международного Красного Креста и Красного Полумесяца». Читатель будет часто встречать аббревиатуру МККК, а иногда и просто МК или «Красный Крест», означающие Международный Комитет Красного Креста, для обозначения движения в целом. Объясняя смысл договоров и их предполагаемое действие, я буду сокращать термин «Высокие Договаривающиеся Стороны» до ВДС, а «Державы-Покровительницы» до ДП. Уверен, что нет необходимости объяснять, что означает ООН. Аббревиатура PR также должна быть известна читателю. Частота, с которой это сочетание букв будет попадаться на страницах, возможно, удивит, однако факт остается фактом: невозможно с достаточной долей реализма обсуждать применение гуманитарного права и норм о правах человека, не учитывая той роли, которую они предназначены играть в быстро растущем политическом бизнесе «связей с общественностью» [public relations]. Это понятие включает старую добрую пропаганду, но в наши дни оно стало намного шире. Законодательство о правах человека значит все больше в этой сфере. Всеобщая декларация прав человека от 1948 г., породившая его, будет упоминаться как ВДПЧ.
Глава 2
Законы войны от раннего Нового времени до второй Мировой войны
Очерк оснований
Никто не знает, как начались войны между людьми, однако есть доказательства того, что они велись уже в самый ранний период истории человечества; эти доказательства существуют не только в виде оружия, предназначенного для сражений, и человеческих останков, поврежденных этим оружием, – сами по себе они не свидетельствуют о таком серьезном явлении, как война, – но имеются и данные, позволяющие сделать вывод о существовании борьбы между организованными группами ради их групповых целей. Защита или захват территории и/или собственности – вот наиболее вероятная цель войн, но нетрудно предположить, что мотивами могут быть также уязвленная гордость и честь, нехватка женщин и прочего жизненно необходимого племенного материала или же попросту удовлетворение страстей, алчности и мании величия деспотических правителей.
Известно, что на протяжении своей истории государства участвовали в боевых действиях с применением оружия для достижения таких примитивных целей, однако этим занимались не только государства, но и, гораздо чаще, группировки бандитов, разбойников, грабителей и преступников, которые также вполне были способны воевать за лошадей, женщин и территорию. Различия между государствами и другими сообществами, между войнами государств и другими формами вооруженных конфликтов имеют важнейшее значение во многих отношениях, и критически настроенный читатель может быть уверен, что эти различия будут должным образом соблюдены, когда этого потребует контекст. Но в одном отношении различие несущественно: все сообщества, независимо от их политического характера, от того, есть ли у них вообще политический характер, вырабатывают свой собственный кодекс поведения в конфликте. То, что на одних уровнях называется рыцарским кодексом благородства, взаимным уважением между джентльменами или честной игрой спортсменов, на других уровнях будет воровским кодексом чести и законом кровной мести. Те своды правил, которые стали общественной моралью и законами государства (отсюда, исходя из этого, в конечном итоге и публичным правом межгосударственных отношений), получают наибольшее практическое значение в историческом и политическом отношении, но их действие невозможно должным образом понять, если не учитывать широкую разветвленность их социальных и психологических корней.