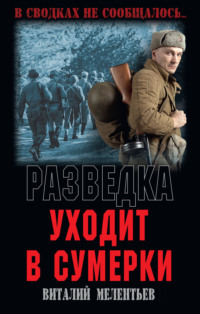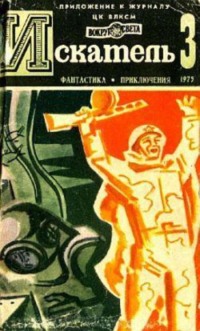Полная версия
Варшавка
И сам, легко выпрыгнув из своего окопчика-«кувшинчика», пригибаясь, бросился к траншее.
Должно быть, необычный взрыв заставил вражеских наблюдателей оглянуться назад и некоторое время рассматривать ежистое облако. Оно быстро темнело, приобретало округлость, растекалось и по сторонам и вверх.
Они собрались в котловане недостроенного дзота – тяжело дышащие, возбужденные, радостно обалделые. Жалсанов происходил из рода воинов и потому старался сдерживаться. Он сощурил темные блестящие глаза и сейчас же стал закуривать. Но цигарка крутилась плохо, он рассыпал табак и потому начал слегка сердиться: мужчине волноваться не пристало. И он отвернулся вполоборота от ребят, к передовой. Она лежала близко. Стороны стояли здесь тесно.
Жилин, словно не глядя, отобрал у Жалсанова цигарку, доклеил ее, прикурил и, жадно затянувшись, так же не глядя, отдал Жалсанову.
– Вот так вот, Петя-Петушок! А ты не верил… – Пропустить возможность подначить и посмеяться даже в удаче, даже в радости Жилин не мог. – Наша помощь Сталинграду в действии! Смерть немецким оккупантам! Выше боевую активность!
– Ладно тебе, не трепись, – миролюбиво сказал Колпаков. Но, как человек во всем справедливый, отметил: – Богато получилось. Высверкнуло, ну… что говорить!
Сдержанный, немногословный Малков – рослый, отлично сложенный и красивый – налегая на «о», уточнил:
– У нас в Иваново, в Глинищево сказали б: хорошо уделали.
Все засмеялись, и низкорослый, румяный Засядько, паренек из-под Днепропетровска, восхищенно покрутил головой и повторил: «Уделали».
Малков мельком взглянул на него, довольно усмехнулся и достал баночку с табаком. Он всегда и все делал чуть-чуть не так, как остальные, – либо чуть раньше, либо чуть позже. Но делал красиво, аккуратно, и потому завидно заметно.
– А чо ж это было? – поднял взгляд на Жилина Колпаков.
– Шут его знает… Может, снаряды, а может, мины.
И все, словно по команде, приподнялись и приникли к срезу котлована. На шоссе клубился жирный дым – должно быть, от солярки или масла. Он доходил до вершинок растущего за Варшавкой леса и круто изгибался, косо растекаясь уже не черным, а коричневым потоком над немецкой передовой.
– Ветер меняется… – отметил Жилин. Он помолчал, ожидая ответа, но все смотрели на дым, и Костя добавил: – Надо бы о новых позициях покумекать.
Ему не ответили, потому что дым подбросило новым, запоздалым взрывом, и Жалсанов первый раз за все время вымолвил словечко:
– Мины.
Жилин кивнул.
Они опять присели на корточки, привалившись спинами к глиняным стенкам. Малков глубоко затянулся и спросил:
– Младший сержант, что там нового?.. – и кивнул в сторону, на юг.
– Что-что… После упорных боев оставили… несколько домов.
Жилин и сам не заметил, как он сгладил сообщение, уж очень ему хотелось, чтобы под Сталинградом было полегче.
– Хреново, – отметил Малков.
– А мы все сидим… – вздохнул Засядько.
– Ну вот и сбегай! – вдруг разозлился Жилин: он понимал Засядько. У обоих близкие остались в оккупации. – С чем побежишь? Танков нет, артиллерия, видно, карточки получила, снаряды на сухари сушит. Не знаю, как ты, а я нашу авиацию с лета не видел.
– Ну и у немца тоже… нет ни черта. Одна «рама» летает, – вмешался Колпаков. – А мы все землю копаем.
– Эх ты… Петя! По науке, чтобы наступать, нужно иметь троекратное превосходство. А нас, обратно, растянули.
Колпаков отвел взгляд; Жилин не только кадровый сержант. Он все время вертится возле начальства. Он науку знает. Малков едва заметно улыбнулся.
– А вот товарищ Сталин говорил: еще годик, еще полгодика – и погоним мы все это куда-нито подальше.
Ребята поерзали и подняли взгляды на Жилина. Как вывернется командир?
– Правильно говоришь, – пряча глаза, слегка иронически сказал Костя и поощрительно добавил: – Говори, говори. Приводи примерчики.
– Пример – перед нами.
– Вот именно! Вот именно: перед нами! Вон даже Петя говорит, что у немцев так же, как у нас, – ни черта нету. Одни мины, да и те мы в распыл пустили.
– А годик кончается…
– Так что ж такого? Чесанули аж… до самой Волги… и Кавказа, это ж разве можно было предположить? Ясно, он на такое рассчитывать не мог. Да и кто ж мог? Разве мы с тобой?
– Сержант, посмотри, – позвал его Жалсанов.
Костя поднялся и стал рядом с Жалсановым. Чуть левее, в ухоженной немецкой обороне, всегда такой тихой и незаметной, явно ощущалось постороннее движение. Какое бы натужное, серое утро ни выдалось, но свет все равно струился с северо-востока и, значит, падал на противника густо. И в этом рассеянном, сером свете проступали легкие дымки, иногда тускло отсвечивали хорошо промазанные ружейным маслом солдатские каски. В траншеях переднего края накапливалась пехота.
– Жалсанов старший! – не оборачиваясь, приказал Жилин. – Засядько, со мной. Стрелять после нас. Все! К бою.
Глава третья
Комбат капитан Лысов ворочался на своем топчане в землянке и никак не мог уснуть. За накатами шуршали мыши – домашне и почему-то весело. И эта веселость раздражала Лысова.
«Как-то все не так получается, – думал он. – Говорили: ни шагу назад, а сидим на Волге… Ведь и на границе можно было драться, так отступали: – казалось, что позади места еще много. А в окружениях дрались как черти – один за десятерых и себя не щадили. Почему? А потому, что другое моральное состояние. В начале войны все резервов ждали: подойдут, ударят – и понеслась… на чужую территорию. А в окружениях, под Москвой – иное… На резервы не надеялись. Стали понимать, что каждый и есть самый главный резерв. Значит, что ж главное? Конечно, и вооружение, конечно, и количество и качество дивизий, и экономика – все главное. А вот самое главное – боец. Что у него в душе! Душой решит стоять насмерть – будет стоять! Не решит – какие там приказы ни пиши, а он всегда причину найдет и драпанет. Значит, главное – в моральном состоянии».
За тремя накатами бревен, в земле, передовая почти не прослушивалась. В сырой шуршащей теплоте думалось особенно тревожно. Изредка, когда где-то рвался снаряд, к шуршанию прибавлялся шорох – осыпалась подсохшая земля. Взрыв на Варшавке отозвался и звуком, и струйками земли.
Лысов вскочил, прислушался и покосился на сладко посапывающего Кривоножко.
«Конечно, ему что… Случись что – с меня спрос. Командир… Единоначальник».
Он опять прилег, поворочался и ослабил ремень еще на пару дырочек. Дышать стало просторней – картошка, особенно жирная, не сразу укладывается, – и он тоже стал посапывать. И тут сразу, обвалом, на оборону батальона посыпались мины.
Еще в полусне, но уже на ногах, затягивая ремень и нащупывая пистолет, Лысов знал, что посыпались мины, – они по-особому, противно выли и рвались как бы поверхностно, без глубинной снарядной дрожи. Та смутная, постоянная тревога, с которой человек всегда живет на войне, окрепла, а сам он как бы раздвоился.
«Ну вот… началось. Началось» – это была самая первая мысль.
За нею приходила убежденность в том, что противник не может так долго и так бездарно стоять на месте в то время, когда его части вышли к Волге. Он обязан долбануть и здесь. Он должен был заметить, что здесь мы снимаем с передовой части и уводим их в тыл. Куда? Дураку ясно – на юг. Там сейчас главное. Противник не мог не заметить, как растянулась оборона батальона, и сейчас, когда заболоченная лощина подсохла, ему в самый раз ударить по-сухому.
«Куда ж он ударит? Как под огнем вывести людей в траншеи? Резерв оставить или сразу пустить на уплотнение обороны?» – эти практические мысли шли как бы рядом и одновременно. И они не могли не идти, потому что Лысов был кадровым военным и такие мысли составляли его сущность. Мозг работал как бы вне его воли, подсказывал десятки вариантов возможного боя.
Постепенно, хотя эта постепенность и заняла секунды, Лысов привычно взял себя в руки и уже с порога посмотрел на Кривоножко. Тот крепко спал. Удивительный человек – артналет, а он дрыхнет. Ну, нервы! Капитаном на мгновение овладела злость. Он повернулся, чтобы разбудить Кривоножко, но в это время неподалеку разорвался снаряд – земля вздрогнула, задребезжали на столе алюминиевые кружки и котелок, в который Жилин вылил чай из чайника. Лысов глубоко, бешено втянув воздух, ощутил весенний запах сливовых веточек, которыми Жилин заправлял чай.
Кривоножко обалдело вскочил, но сейчас же пришел в себя, рывком и точно, не путаясь, набросил снаряжение и подтянул голенища. С тех пор как батальон растянули, они спали в сапогах.
Лысову захотелось заорать, но он сдержался еще и потому, что запах сливовой веточки напомнил ему о Жилине. Жилине-связном, который носится неизвестно где, а ему, Лысову, придется идти в бой без связного, без прикрытия.
– Я в штаб, – все-таки крикнул комбат и бросился в дверь.
Адъютант старший – что за название для должности начальника штаба батальона! – вскочил из-за стола и сразу же передал телефонную трубку Лысову. Звонил командир полка.
– Что там у тебя? Атакует?
Этот знакомый ворчливый голос сразу успокоил Лысова, выбил все лишнее и вернул к единственно правильному состоянию боевой напряженности.
Лысов взглянул на адъютанта старшего, тот отрицательно покачал головой.
– Пока минометный налет, но начинает вводить артиллерию.
– А что это за взрыв был?
– Взрыв у противника? – чтобы оттянуть время, переспросил Лысов, показывая одновременно и свою осведомленность обо всем, что делается в его батальоне и против него. Как-то не думая тогда в полудреме-раздумье, он просто отметил направление взрыва, его силу и не то что понял, а почувствовал – это у противника и, значит, его не касается. Вот теперь все сработало.
Адъютант старший пожал плечами: не знает.
– Ну не у тебя ж… – разозлился командир полка.
– Уточняем, товарищ подполковник.
– Когда уточнять, если на тебя сейчас навалятся.
– Будем отбиваться.
– Смотри, Лысов! Отойдешь – головы не сносить! – Помолчал и добавил: – Звони через каждые десять минут. Я – на НП.
Да уж… Если противник прорвет оборону, головы и в самом деле не сносить. Оборона хоть и старая, а жидкая, и, насколько известно Лысову, позади особых резервов не имеется… Выйдет фриц на простор, покатится как по асфальту. А там – Москва…
Лысов кинул трубку в коробку аппарата и отрывисто спросил:
– Что с НП?
– Связь нарушена. Лупят по седьмой роте и НП.
Час от часу не легче. Седьмая рота строптивого старшего лейтенанта Чудинова почти вся в ложбине, от нее до немца ближе всех. А правее роты, на взлобке, – наблюдательный пункт командира батальона. До него, значит, не доберешься, а наблюдатели молчат: нарушена связь.
– Связь с артиллерией?
– Есть. Отметили движение противника в траншеях. Орудия приведены к бою.
«Пока откроют огонь, противник проскочит сто метров и ворвется в траншеи. Поди потом выковыривай его артиллерией – своих больше накрошишь».
– Что у соседей?
– Тоже налеты, но послабее. Главное, вроде бы по седьмой роте.
Лысов мгновенно вспомнил, что адъютант старший дружит с Чудиновым и потому особенно беспокоится о седьмой роте. Это насторожило и как бы включило некие критические центры.
Мозг комбата работал четко, точно, Лысов понял, что противник ударять только по седьмой роте не будет: она ведь в ложбинке. Если нельзя втянуться в траншеи с флангов, с более высоких мест ударят наши пулеметы, и занятые траншеи не помогут: огонь достанет сверху. Значит, противник наверняка ударит встык. Там, над стыком, Лысов собирался соорудить новый командный пункт батальона, да уж больно не хотелось перетаскивать уже устоявшееся хозяйство, мучить людей строительством. Теперь вот расплачивайся…
Впрочем, остановил себя Лысов, еще ничего не известно. Может, противник ударит сразу по всему фронту батальона, а может, и полка – вон как командир полка взволновался. Сразу помчался на свой НП.
Огонь противника не ослабевал. Он даже несколько усилился: все чаще грохали тяжелые снаряды – земля с накатов сочилась гуще, и чай в котелке на столе покрывался рябью.
В блиндаж влетел Кривоножко, и Лысов встретил его неласково. Не потому, что бывший комиссар опоздал, а потому, что обстановка комбату очень не нравилась. Но как бы она ни тревожила, его мозг все равно проделывал ту незримую и еще никем не понятую работу, которую иные именуют творчеством, иные – интуицией и другими умными словами.
– Не все еще ясно, комиссар, но ясно одно – тебе нужно двигать на правый фланг – роты там на новом месте. Действуй сообразно с обстановкой, но сразу же подумай о создании контратакующей группы и связи с соседями и артиллерией. Не забудь и о связных. Все. Действуй!
И раньше, в трудные минуты боя, Лысов говорил точно так же – с одной стороны, как бы отдавая приказ, а с другой – допускал и некоторое панибратство: не требовал повторения приказания, давал свободу действий и все такое. И Кривоножко принимал и этот тон комбата, и форму обращения. Сегодня эта форма несколько задела, потому что Кривоножко не знал, как себя повести, – повторять приказание, он же теперь подчиненный, или…
Кривоножко коротко, испытующе взглянул на комбата, но взгляда его не поймал, козырнул и сказал «Есть!» таким тоном, словно прощал комбату этот приказ и его тон и форму.
Позвонили из девятой роты – у них только беспокоящий огонь, а уж когда Кривоножко выходил из блиндажа, наконец позвонил и Чудинов. Трубку взял Лысов.
– Товарищ капитан! – кричал Чудинов. – Лупят по землянкам, и потому выводить людей в траншеи не спешу. Создал контратакующую группу – два отделения автоматчиков, а ручников выдвину на стык.
– Почему на стык? – спросил Лысов. Он сразу отметил проницательность Чудинова и ждал от него подтверждения своей догадки: противник нацелился на ротный стык.
– Он там, понимаете, артиллерией обрабатывает, а землянки и у меня, и у восьмой – минометами. Мешок делает.
– Понятно. Держись и звони почаще.
Лысов поправил фуражку и спросил:
– Автомат лишний есть?
Лишнего автомата, конечно, не было, и адъютант старший молча передал капитану свой – незаконно списанный когда-то, нигде не числящийся и потому ставший как бы личной собственностью начальника штаба.
Обстановка прояснялась. Противник, видимо, проводил разведку боем. Если бы он собрался в настоящее наступление, так артподготовку вел бы на полную мощность, а не скупился бы, не маневрировал бы стволами. Тоже, видать, на лимите сидят, экономят выстрелы. Выходит, все замыкается на ротном участке.
«Ну что ж… это полегче, – подумал Лысов, но, взглянув на часы – прошло минуты четыре-пять, – спохватился. – Всем легче, а мне – труднее. На меня наваливаются. Значит, все от одного меня и зависит».
И хотя еще в те секунды, когда он просил автомат, он уже принял решение пробираться на свой НП – ведь вон связисты восстановили же связь, значит, пробиться можно, – только теперь Лысов осознал обстановку, прочувствовав ее, понял, чем он рискует, и выругался про себя: «Чертов Жилин! Иди под огонь без прикрытия. Ранят – и вытащить некому».
– Старший лейтенант. Дайте связиста, пойдем на НП.
Как раз в это время позвонили с НП.
– Товарищ капитан! – почему-то весело, возбужденно кричал командир взвода связи молоденький младший лейтенант, и Лысов, узнав его по голосу, про себя решил, что командир взвода связи действовал в данном случае правильно – НП сейчас главное звено, и именно там находится начальник связи.
– Товарищ капитан! Фрицы атакуют.
– Много? – спокойно спросил Лысов – ведь он ждал этой атаки.
– Много, товарищ капитан! Человек сто!
– Держитесь там. Сейчас подойду!
Он бросился к дверям, и адъютант старший глазами приказал писарю сопровождать капитана: последнего, дежурного, связиста он отпустить не мог.
Глава четвертая
Жалсанов как стоял, боком привалившись к стенке котлована, так и остался стоять. Только выложил винтовку между темными ломтями осенней глины. Колпаков и Малков молча встали по обе стороны и тоже выложили винтовки. Жилин с Засядько пробежали метров сто и юркнули в кустарник – когда-то они отрывали там парные окопы-«кувшинчики».
Они едва успели устроиться в тесных окопчиках, как начался минометный налет. До кустарника мины не долетали. Вся оборона батальона была как на ладони, и Жилин гораздо раньше Лысова определил и направление удара противника, и его замысел.
«Конечно, – думал он, – фрицу тоже требуется узнать, чего мы стоим на сегодняшний день и почему так активно примолкли. Ничего… рога мы ему сейчас собьем».
Сюда, ко второй линии обороны, осколки не долетали, но дым от разрывов доплывал – горьковато-пряный, возбуждающий.
Жилин видел, как мелькали каски наших солдат, как юлили по бурому бурьяну связисты, сращивая обрывы, и находил, что все идет правильно и опасаться нечего. Но тут вспомнился Лысов, и Костя на секунду заколебался. Комбату, ясно, потребуется пробраться на НП, а он, его связной, здесь. Непорядок.
«А-а… – мысленно махнул он рукой. – Не маленький, проберется. Людей много, возьмет на прикрытие».
И все-таки успокоения не пришло. Бой, он и есть бой, и комбату, конечно, было бы надежней с Костей – и привычка, и есть с кем перекинуться парой слов, и даже на ком сорвать злость. Но главным все-таки было не это. Костя привык к комбату и, может быть, по-своему любил. И беспокоился он о нем в те минуты не потому, что не сможет прикрыть его, спасти, а потому, что как нелюбящая, но преданная жена вечно беспокоится о своем баламуте-муже, отце ее детей, так и он боялся, как бы Лысов не натворил что-нибудь. «Не дело», как сказал бы Малков. Косте казалось, что он умел удерживать Лысова от ненужных, на его, конечно, взгляд, порывов, а иногда, наоборот, подталкивать, когда комбат колебался. А тут Лысов окажется один, без присмотра…
Была минута, когда Костя мог бы бросить снайперов и побежать к комбату, хотя был твердо убежден, что здесь, на этом месте, в этой неожиданной засаде, он нужней. Но сердце иногда бывает сильней разума.
Огонь минометов и артиллерии усилился, распространился почти на весь фронт батальона, а с первых траншей нашей обороны переместился и в глубину – немцы били по штабу батальона и ходам сообщения.
И тут началась атака.
Противник выскакивал резво, стремительно – застоявшиеся, хорошо тренированные солдаты словно распластывались над землей, как летающие лыжники после взлета с трамплина. На секунды они скапливались у проходов в проволочных заграждениях, а потом бежали опять вперед. Целиться в таких, прорвавшихся за проволоку, было нелегко, и Жилин стрелял по тем, кто еще только выпрыгивал на бруствер своей, только что такой надежной, траншеи.
Первый же фриц мгновение покачался в неестественной позе – задрав вверх руку с автоматом, выставив вперед колено – и завалился назад.
Жилин, как всегда, стрелял трассирующими. Он указал и цель и показал, как нужно бить. И снайперы заработали. А Жилин в это время стремительно сменил обойму – выбросил трассирующие и загнал обычные.
Теперь целеуказание ни к чему. Противник – на ладони. Бей – не хочу.
И они били. Конечно, многие из фрицев успевали оттолкнуться от брустверов траншей и устремлялась вперед, но многие, очень многие опрокидывались навзничь, оставались лежать на брустверах.
В грохоте минных и снарядных разрывов винтовочные выстрелы, конечно, потонули, трасс не было, и поэтому убийственно точный, на выбор, снайперский огонь подавляюще подействовал на тех, кто еще не успел выпрыгнуть. Там, в траншеях противника, заметались офицеры и унтера, выталкивая замешкавшихся солдат, и снайперы стали бить по каскам, выбирая точку прицеливания пониже, на срезе брустверов: точно попадешь – пуля прошьет шею; возьмешь чуть выше – попадет в голову, а если винтовка «клюнет», пуля пробьет землю и врежется в грудь. Винтовочная пуля – мощная. Верхушку бруствера она прошьет и не завихрится. Не автомат стреляет…
Но как бы точно ни били снайперы, как бы ни заливались неслышимые в грохоте разрывов дежурные пулеметы, а, как потом выяснилось, большинство из них немцы разбили из орудий прямой наводки, – все-таки большая половина атакующего противника ворвалась в траншеи, добила немногих наблюдателей и захватила «языка». Бить по этим, ворвавшимся, снайперы поначалу не могли: над траншеями виднелись только каски, и какая из них своя, а какая чужая – разобрать было трудно.
Жилин все это время даже не оглядывался на остальных троих. Он знал Жалсанова, его каменный, жесткий в бою характер, его поразительное умение мгновенно увидеть то, чего еще никто не видит, и сразу принять единственно правильное решение. Недаром он был из рода воинов.
Да и сам Жалсанов совершенно не следил за Жилиным. Он только стрелял – не торопясь, размеренно, не взглядывая на своих товарищей. По звуку их выстрелов он понимал, что ребята ведут огонь спокойно, выцеливают старательно – они не частили, не затаивались. Все были заняты своим делом, увлеклись им и не думали ни о себе, ни о чем другом, кроме этого дела.
Вот почему никто так и не увидел, как капитан Кривоножко пробежал позади Жилина и Засядько, как остановился возле Жалсанова. Он сразу оценил действия снайперов, понял, какой урон они могут нанести, а присмотревшись, увидел этот урон и внутренне обмяк: все оказалось не так страшно, как там, в землянке батальонного штаба. Вспомнился Лысов, и Кривоножко отрывисто, по-командирски, спросил:
– Где Жилин?
Никто не удивился появлению замполита, никто даже не обернулся. Только Жалсанов небрежно махнул рукой в сторону, откуда вел огонь Жилин. Кривоножко понял это по-своему: Жилин убежал к штабу, к Лысову. Значит, и здесь все в порядке.
Капитан немного потоптался. Он осознал, что правому флангу батальона ничто не угрожает и лучше бы ему быть на НП, но сейчас же вспомнил, что теперь он такие вопросы решать не может. Он получил приказ и обязан его выполнить. В частности, подготовить контратакующие группы. Конечно, он сразу понял, что контратаковать силами крайней девятой роты стык седьмой и восьмой слишком неудобно. Людей придется вести поверху, на виду у противника, или, наоборот, обводить тылами… Но приказ есть приказ. И Кривоножко, уже не слишком торопясь, потрусил, сгибаясь, по еще мелкой траншее на правый фланг.
Кривоножко не видел, как из захваченной противником траншеи вывалились два немца и поволокли к своим траншеям «языка». «Язык» в бурой шинели, без каски хорошо просматривался меж зелеными шинелями фрицев. Виднелась даже белая точка кляпа во рту. Немцы связали ноги и руки «языка», и он беспомощно волочился по земле, вероятно, теряя сознание от боли.
Когда Жилин увидел эту троицу, он прежде всего понял именно эту боль «языка», представил, как ломят суставы, как обдираются руки о бурьяны, и отдал приказ:
– Засядько! «Языка» не трогай. Беру на себя.
Засядько с ужасом посмотрел на Жилина – он решил, что Костя расстреляет сейчас своего же брата красноармейца, с которым, может быть, коротали ночные часы, а то и ели из одного котелка и который попал вот в такую беду.
Самым страшным, пожалуй, было то, что Засядько понимал: противник не должен иметь «языка». Ни при каких обстоятельствах! Потому что «язык» может рассказать все, что он знает об их обороне, и тогда туго придется всем, а значит, и Засядько. И все-таки он, убивающий сейчас фрицев, с ужасом ждал, когда Жилин расстреляет этого бедолагу – ведь другого выхода Засядько не видел.
Его видел Жилин. Он выцеливал так долго и так тщательно, что Засядько перестал ужасаться. Фрицы проползли уже метров тридцать, когда Жилин выстрелил первый раз. Ближний к нему немец поерзал правой ногой и вывернулся на бок. Второй, тот, что был за пленным, видно, покричал ему, потом толкнул, и убитый немец вяло отвалился на сторону. Живой подхватил пленного поудобней, для чего ему пришлось несколько приподняться над землей, и тут его свалил Жилин.
Костя с облегчением вздохнул, мельком посмотрел на Засядько, ужас в глазах которого сменился восхищением, и буркнул:
– Ну ползи же, дура старая!
Засядько теперь понял все: Жилин не торопился с выстрелами, ждал, пока немцы подтянут пленного к старой бомбовой воронке, в которой можно будет скрыться. Стрелял он первым ближнего потому, что дальний немец после смерти напарника обязательно приподнимется и, значит, у лежащего пленного окажется больше шансов не попасть под жилинскую пулю. «Дура старая» – тоже сказано неслучайно: днем в траншеях норовили оставлять пожилых бойцов. Считалось, что они бдительней, их не так тянет в сон.
Все это Засядько оценил, и его добрые темно-карие глаза повлажнели. Он перевел дыхание и опять стал выцеливать противника. Лицо его сразу стало жестким и колючим, как полминуты назад у Жилина.
Глава пятая
До наблюдательного пункта капитан Лысов добрался благополучно. Раза два его обдавало глиняной крошкой и прахом от ближних разрывов, но не сильно и не страшно. Только на НП он обнаружил молчаливого пожилого писаря, но не обратил на него особого внимания – бросился к стереотрубе. И уж только убедившись, что противник, как ему и докладывал стоящий рядом начальник связи, явно создал огневой мешок вокруг стыка, а по фронту ведет отвлекающий огонь, окончательно освободился от предчувствия общей для всего участка беды. Теперь все, что происходило, стало его личной бедой и заботой. И думать он стал соответственно.