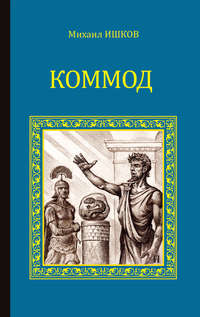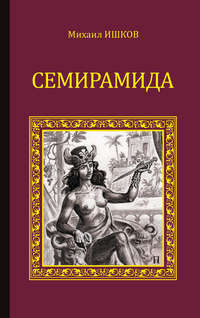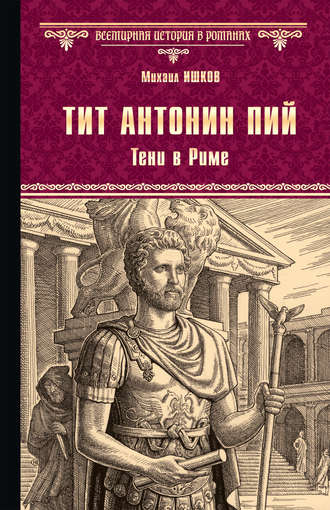
Полная версия
Тит Антонин Пий. Тени в Риме
– Если отказываешься, тогда этой же ночью покинь мой дом! – настоятельно потребовал Витразин.
– Обязательно покину, но не завтра, а когда ты подберешь мне убежище. И покинем мы вчетвером, и сопровождать, а также охранять нас будут твои люди. Если проявишь строптивость, тогда не миновать беды. Я не хочу пугать тебя, Витразин, но в этом случае тебе не миновать встречи с городским префектом. Или, что еще хуже, ты можешь оказаться в руках таинственных существ, которые появляются из тени…
Витразин не ответил. Принялся пилкой подтачивать ногти, потом тихо выговорил:
– Я знаю тебя, Сацердата. Ты слов на ветер не бросаешь. Однако и мне рисковать ни к чему. И ради чего? Ради какого-то случайного знакомства? Ты на что рассчитывал, старик? Отыскать в городе еще одного Регула и предложить ему свои услуги? К сожалению, ты ошибся. С воцарением Траяна у нас в Риме наступила эра милосердия. Доносы, а также кровавые заказы не принимаются. Но эту оказию еще можно было бы пережить. Куда хуже пошли дела при Адриане. Этот сумел согнуть в бараний рог самых отъявленных своевольцев. Теперь пришел черед Антонина, о котором говорят, что этот зануда – буквально язва благоразумия, воплощенная добродетель. Я лично в это не верю, но мало ли… Конечно, Регулов в Риме всегда хватало, однако вряд ли они станут рисковать, обращаясь за помощью к государственному преступнику во время смены власти.
– Ты прав при свете дня и не прав во мраке ночи, – возразил Антиарх. – Я вовсе не рассчитываю на опеку какого-нибудь отъявленного патриция. Мне не нужна опека, я не в том возрасте.
– Но отказываясь стать чьим-нибудь клиентом, тебе в Риме не выжить.
– И в этом ты прав. Хорошо, я уйду завтра. В свое время… После заката. Поэтому, если ты так спешишь, успей до вечера подобрать нам убежище, куда нас проводит твой человек.
– Что я буду за это иметь?
– Ты поможешь мне в одном очень важном деле. Ты слыхал об Аквилии Регуле Люпусиане?
Витразин едва не задохнулся от гнева, даже выронил пилочку для ногтей.
– Кто же не слыхал о мерзком вольноотпущеннике, завладевшем стомиллионным состоянием Регула!
– Вот им и надо заняться.
– Ты в своем уме, старый интриган?!
– Не только в своем, но и в твоем, Витразин. Я вижу тебя насквозь, тебе очень не по нраву положение вольноотпущенника. Тебе никогда не сиделось на том месте, которое было определено тебе судьбой. Всем известно, что в Риме путь на выбранные должности вольноотпущеннику заказан. Ты давно метишь в свободнорожденные граждане, чтобы взобраться куда-нибудь повыше – в городские эдилы, например, а то и в квесторы, не так ли?
Витразин промолчал. Он поднял пилочку и снова принялся подравнивать ногти.
Антиарх продолжил:
– Но для такого кульбита нужны деньги, дерзость и поддержка сильных, а у тебя в подручных исключительно дамы, пусть даже из самых знатных, с помощью которых ты выбился в вольноотпущенники. Но главное – деньги. На своих подрядах по доставке хлеба их не наживешь. И в пожарной команде ты никогда не сможешь стать членом коллегии «ночных триумвиров»[11]. Самое большое, что тебе светит, это дослужиться до советника. Женщины в этом деле тоже не помощницы, разве что ты сможешь окрутить императрицу…
Антиарх рассмеялся и похлопал Витразина по плечу:
– Ты всегда умел и готов был рискнуть. Считай, что тебе повезло и на этот раз.
– Тем, что встретил тебя, Сацердата? – Витразин смерил гостя презрительным взглядом, потом неожиданно спросил: – Что хочешь от меня?
– Во-первых, разузнать все об этом негодяе. Во-вторых, донести префекту города, что Сацердата был у тебя, но ты как верный подданный выпроводил его из дома и, где он сейчас, даже не догадываешься.
Витразин удивленно посмотрел на старика:
– В тебе ни на каплю не убыло коварства, Сацердата. Ты по-прежнему в хорошей форме. Ты требуешь от меня, чтобы я по собственной воле сунул голову в петлю?
Сацердата засмеялся, словно проблеял:
– Жизнь подходит к концу, а еще столько не сделано. Что преступного в том, чтобы разузнать кое-что кое о ком?
– Какова будет моя доля?
– У тебя будет хорошая доля, но главное – в случае успеха ты сможешь на полном основании примерить гражданскую тогу, как бы фантастично это ни звучало.
Витразин кивнул:
– По рукам.
Глава 3
Два последних года, во время которых Адриан безуспешно боролся с болезнями, город прожил в тревожном ожидании роковых последствий смены власти.
Такое в Риме уже случалось – после убийства Цезаря, после гибели Калигулы и Нерона, когда в гражданских войнах погибло больше граждан, чем на полях сражений с иноземцами.
Прежняя безмятежная уверенность в том, что «приверженец философии и отъявленный законник» сумеет обуздать склочные свойства своей натуры – мелочность, злопамятность, изматывающий всех приближенных к власти педантизм, – развеялась, когда в 136 году Адриан неожиданно объявил о назначении Луция Цейония Коммода своим наследником. Неужели любовные утехи, которые Луций предоставлял императору, или умение готовить знаменитый «тетрафармакон»[12] заставили далеко не глупого Адриана обещать Луцию императорский венок?
Император мотивировал свое решение тем, что когда-то дал слово привлечь Луция Цейония к управлению страной. Более странную причину для усыновления трудно было придумать.
Сначала никто в Риме не воспринял эту новость как скрытую угрозу, тем более что по случаю усыновления была произведена раздача народу и воинам трехсот миллионов сестерциев, устроены цирковые игры – одним словом, не было упущено ничего, что могло бы поднять общее веселье. Даже слабое здоровье будущего принцепса – к моменту объявления цезарем он и вовсе выглядел как доходяга – не сразу подорвало веру в надежность этого выбора для блага империи.
Первым звонком приближавшейся смуты прозвучало раскаяние императора, признавшегося тогдашнему префекту претория Катилию Юлию Севéру: «…Мы оперлись на довольно шаткую стену, которая не то что государство, но даже нас с трудом может поддерживать».
Префект разгласил эти слова, и, хотя Адриан, желая смягчить жестокость своих слов, сменил префекта, беспокойство в городе резко усилилось.
Родственники императора, а также некоторые проницательные патриции уже не могли не обращать внимание на то, что Адриан все чаще впадал в болезненную меланхолию, усиленную приступами преследующих его болезней.
К сожалению, так бывает, что «проницательность», «старческая» мудрость и «близость ко двору» никак не связаны с расчетливым, умеющим обуздывать телесные страсти разумом, что спустя полгода подтвердила расправа над императорским шурином Юлием Урсом Сервианом.
Того будто с цепи спустили!..
Девяностолетний старик зачем-то устроил роскошный обед царским рабам и, что еще страшнее, несколько раз его заставали сидящим вразвалку на императорском кресле. Внук Сервиана Гней Педаний Фуск, тоже, видно, не от большого ума, публично объявил о знамениях и оракулах, предсказывающих ему императорскую власть.
Адриан в припадке ярости принудил старика покончить с собой, а Фуска велел предать казни.
* * *В январе 138 года Луций Цейоний Комод умер. Пришлось императору вновь выбирать наследника.
Спустя месяц было объявлено об усыновлении, а значит, и признании наследником пятидесятидвухлетнего сенатора Тита Аврелия Бойония Фульва Антонина.
Весть о том, что, усыновляя Тита Антонина, Адриан потребовал от сенатора также усыновить своего внучатого племянника Марка Аврелия и девятилетнего сына Луция Вера – тоже Луция Вера, – в городе сочли либо насмешкой, либо прямым свидетельством того, что «бородатый» окончательно спятил.
Казалось, преждевременная кончина Луция должна была просветить мозги «бородатому». Риму требовался твердый в намерениях и отважный на поле брани преемник.
А он кого выбрал?!
Рохлю и домоседа Антонина, который отличался от других претендентов разве что скромностью в желаниях. О нем в сенате даже стишки ходили: «наш Антонин более похож на кота», чьими забавами являются «еда, еда и изредка кошки». Что еще невероятней, вдобавок к Антонину Адриан привлек к управлению страной двух молокососов. Причем оба – особенно старший, семнадцатилетний Марк Аврелий – были известны как страстные поклонники греческой философии.
Тита Антонина, Марка Аврелия и Луция Вера в Риме в насмешку сразу прозвали «наши очередные триумвиры», намекая на прежние властные конструкции, ввергнувшие Рим в братоубийственные гражданские войны, от которых Италия пострадала не менее, чем от вторжения галлов и Ганнибала. По мнению римлян, особенно из старинных патрицианских родов, Адриан отдал Марка и Луция на заклание, так как ради сохранения власти Антонин непременно должен погубить их обоих. Если, конечно, не будет мямлей и в срочном порядке изобретет какой-нибудь заговор против собственной власти.
Если промямлит, его устранит подросший Марк Аврелий, какими бы достойными добродетелями ни наградила его природа.
* * *Марк Аврелий обратил на себя внимание Адриана малолетним ребенком. Однажды его дед Анний Вер взял мальчика с собой на императорскую виллу в Тибур.
Адриан приставил к Марку раба, который должен был познакомить внучатого племянника с рукотворными и нерукотворными чудесами, собранными на вилле, а сам вместе с гостями – Аннием Вером и Титом Антонином – отправился в личные покои поговорить о делах.
Императорскую дачу в Тибуре называли восьмым чудом света, а еще сокровищницей, где можно было воочию увидеть пусть и уменьшенные, но очень впечатляющие копии египетских пирамид, фессалийские Темпы[13], родосский Колосс и алтарь Зевса, что в Пергаме. Здесь также были построены Лабиринт и подземное царство – владение мрачного Аида, а также воссоздана часть дворца царя Вавилона Навуходоносора. Место было священное, историческое – в этом парадном зале на открытом воздухе четыре века назад был установлен помост, на котором покоилось тело умершего от простуды Александра Македонского, и вся армия, воин за воином, прошла мимо умирающего полководца.
На противоположной стене парадного зала была выложена знаменитая мозаика, изображавшая переломный момент битвы на Иссе, когда Александр лично возглавил атаку своей тяжелой конницы, сокрушившей орды персов. Исполинское изображение занимало всю стену.
Мозаика была громадна, и, чтобы разом охватить ее взглядом, маленький Марк начал пятиться, пока не уперся в какое-то препятствие. Он поднажал, и в следующее мгновение мельком приметил прекрасную вазу из молочно-белого, просвечивающего алебастра, грациозно и замедленно падающую на каменные плиты.
В следующее мгновение молодой, изящного телосложения раб бросился собирать осколки. На сына римского патриция, неуверенно отступившего в тень, он старался не смотреть.
…У мальчишки дыхание перехватило, когда на двор в сопровождении своего секретаря Целера, дедушки Анния Вера и сенатора Тита Антонина вошел император.
Адриан не спеша подошел к рабу. Тот замер, головы не поднял.
– Зачем ты тронул ее? – ласково спросил император. – Разве ты не знаешь, что в одиночку здесь ни к чему нельзя прикасаться. Ты будешь наказан.
– Господин… – не поднимая головы, судорожно выдохнул раб.
– Говори, – кивнул император, – если тебе есть что сказать в свое оправдание.
– Господин… – с той же тоской повторил раб.
– Целер, займись, – коротко распорядился Адриан и большим пальцем правой руки ткнул в землю, затем обратился к Аннию Веру: – Где же твой внук, Анний?
Марк вышел из тени, поспешно приблизился и неожиданно бурно разрыдался.
Взрослые с любопытством, а Адриан с некоторой брезгливостью смотрели на него. Зрелище скривившего губы, роняющего слезы мальчишки трудно было назвать прекрасным.
– Повелитель, – торопливо, пытаясь совладать с голосом, заявил Марк, – раб не виноват. Это я разбил вазу.
Брезгливость на лице Адриана сменилась удивлением. Также поспешая, Марк добавил:
– Повелитель, ты обязан пощадить его. – Мальчик ткнул пальцем в поднявшего голову раба и добавил: – И наказать меня, как того требует закон.
Марк большим пальцем правой руки потыкал в каменные плиты, которыми был выложен двор.
Адриан оглушительно расхохотался. Его поддержал Целер и Антонин, даже дед, до той поры оторопело следивший за внуком, выдавил улыбку. Император присел на корточки, взял мальчика за плечо.
– Во-первых, племянник, повелитель никому и ничем не обязан, – объяснил он. – Во-вторых, императору не к лицу выносить поспешные решения. Прежде всего, ему необходимо научиться докапываться до истины – это его первейшая обязанность. Если в расследовании проступка обнаружились новые обстоятельства, принцепс имеет право взять свое слово назад. Посему я прощаю тебя.
Адриан с некоторым усилием выпрямился, осмелевший Марк глянул на него.
– Когда станешь правителем, – усмехнулся император, – вспомни, что первый урок, как следует властвовать, преподал тебе сам Адриан.
– Но я не хочу быть правителем. Я люблю играть в мяч, люблю смотреть, как дерутся перепела.
Адриан пожал плечами:
– Быть или не быть правителем, сие от нас не зависит. Задумайся, племянник, каково мне было стать императором после божественного Траяна? Что касается перепелов? – Император поиграл бровями. – Это пустое…
После встречи на вилле о Марке заговорили. Адриан назвал его не Вер, но «вериссим»[14], и среди римлян покатилась шутка: «В такие годы, а уже вериссим! Что же с ним дальше будет?»
Кое-кто из проницательных остроумцев добавлял при этом: «А с нами?»
* * *Вспоминая этот случай, в Риме задавались вопросом – когда Марк повзрослеет, удовлетворится ли он изучением философии или для начала попробует проверить преподанную Адрианом науку на практике и заодно покончить с Титом? А вслед подрастал еще Луций Вер, чей дед Цейоний никогда не скрывал своих претензий на императорскую власть. Кто мог заранее подсказать, какой философией воспользуется его внук в этом не поддающемся трезвому расчету, властном раскладе?
Эти ожидания подкреплялись жуткими знамениями, грянувшими в начале года и обещавшими городу ужасы и чувства, более сильные, нежели ужас. На земле для них не было наименования.
Сразу после кончины Адриана сиявшая на ясном небе луна начала меркнуть. На следующей неделе на Капитолий сели зловещие птицы. Во время землетрясения от следовавших друг за другом толчков обрушились дома, а в Капуе родился ребенок со звериными членами. В Кампании свинья произвела поросенка с ястребиными когтями.
Все – и воля богов, и «безумие» умершего императора – подсказывало, что ясное и спокойное Траяново время подходит к концу. Пророчицы в Риме открыто предрекали – ждите беды. Она обязательно нагрянет.
Чем эти отважные триумвиры – «добряк и два внука» – собираются отвадить тьму?
Заклинаниями?
Убежденностью, что свет всегда разгоняет мрак? Но это когда будет, а пока день меркнет, приближаются сумерки, наползают тени…
Мертвый груз будущего придавил город. Смертные затаились в ожидании – долго ли продержится Антонин со своими приемышами? Спасаясь, твердили: «Живи, резвись и радуйся, люби и будь любимым…»[15] Другие подхватывали: «…бани, вино и любовь разрушают вконец наше тело, но и жизнь создают бани, вино и любовь…»
Глава 4
10 июля 138 года в Байях[16] скончался Адриан. Его похоронили в мавзолее, который он заранее возвел на правом берегу Тибра[17].
Первый бой римская знать дала новоиспеченному принцепсу, когда тот обратился в сенат с просьбой об обожествлении Адриана.
В своей речи Антонин указал на непреходящее значение реформ скончавшегося императора для успокоения и долговременного обустройства Вечного города.
– …Так назвал Рим божественный Адриан, – добавил Антонин и продолжил: – Должны ли мы, отцы-сенаторы, забывать, что разбирая судебные дела, он привлекал не только друзей и приближенных, но и знатоков права, и только тех кого одобрил сенат.
Адриан не допускал процессов об оскорблении величества, чем «прославились» такие тираны, как Нерон и Домициан. Он не принимал наследств от незнакомых ему людей, равно как и от знакомых, если у них были дети.
Неужели эти осененные законом благодеяния должны быть преданы забвению, а ведь отказ в обожествлении – то есть в признании самого Адриана в принадлежности отечественным богам – означает отказ в признании вынесенных им решений.
Вспомним, что именно Адриан запретил господам убивать рабов, и по его эдикту только судьи получили полномочия выносить приговор, если рабы того заслужили. Он запретил продавать без объяснения причин раба или служанку своднику или содержателю гладиаторской школы, чем облагодетельствовал миллионы несчастных, которые в противном случае копили бы ненависть и злобу против Рима.
Вспомним, что злостных расточителей своего имущества, если они были правоспособны, он приказывал сечь в амфитеатре, а затем отпускать. Он упразднил тюрьмы, в которых содержались рабы и свободные люди, выловленные на дорогах и назначенные к работе.
Не забывайте, что согласно его предписанию, если господин был убит у себя в доме, следствие производилось не обо всех рабах, а только о тех, которые, находясь поблизости, могли услышать.
Он разделил бани на мужские и женские отделения.
В зале раздались негодующие возгласы:
– Эта мера – грубейшее святотатство! Покушение на установления предков!.. Бессмысленная и поспешная забота о нравах нередко приводит к обратному результату…
Антонин ткнул пальцем в особенно разволновавшегося сенатора Валерия Деция Гомула:
– Тогда почему ты, Гомул, запрещаешь женщинам своего дома посещать общественные бани?
– Кто? Я?? – возмутился седовласый, знаменитый огромным выступающим, словно руль, носом сенатор. – Я всегда с достоинством следовал обычаям и почтительно исполнял законам Рима. Я всегда выступал против тирании и приверженности к гнусным и своевольным поступкам некоторых, непонятно как пробравшихся к власти злодеев, таких как Нерон или Калигула.
Он помедлил немного, обернулся, оглядел зал и под одобрительные возгласы большинства сенаторов произнес недопустимые слова:
– …или Адриан!
Антонин поднялся вперед.
В зале примолкли.
– Насколько я помню, именно ты, Гомул, внес предложение о назначении Адриана принцепсом.
– Когда это было?! Этого не было!.. – взвизгнул Гомул.
– Это было после выступления Ларция Лонга, префекта конницы, который принес клятву в том, что он лично слышал, как великий Траян признал Адриана своим сыном и передал ему перстень и жезл.
Гомул покраснел, однако Антонин более не позволил известному горлопану надрывать глотку.
– Если ты будешь настаивать, я прикажу поднять анналы и зачитать публично твое выступление.
Гомул сел.
Цивика, дядя девятилетнего Луция Вера, один из самых уважаемых сенаторов, выдвинул предложение отложить дебаты. Перенести их, например, на завтра, чтобы в спокойном состоянии, без личных обид и ненужных в таком деле страстей решить этот вопрос. Его поддержал старый, но еще крепкий бывший префект города и воспитатель умершего императора Публий Ацилий Аттиан. Ему всегда хватало выдержки и умения дождаться своего часа.
Он подал голос в самый опасный момент, когда Антонин, срезав Гомула, мог склонить большую часть сенаторов поддержать его требование провозгласить умершего императора «божественным». С этим, по мнению Аттиана и его тайных соратников, ни в коем случае нельзя было соглашаться, тем более так поспешно.
Его поддержал Теренций Генциан и Платорий Непот.
Новый принцепс не стал спорить и утвердил решение большинства.
* * *Вечером, на тайной встрече сенаторов, возмущенных выбором «свихнувшегося» Адриана, один из главных недругов царствующей семьи Элиев, Цивика Барбар выразил сомнение в искренности такого легкого согласия Антонина.
Не задумал ли новый принцепс какое-нибудь злодейство?
Валерий Гомул вскочил, потребовал слова…
Он заготовил разгромную речь-инвективу против новоявленного «правителя», однако воспитатель Адриана Публий Ацилий Аттиан жестом заставил Гомула вернуться на место. Дряхлеющий, но не потерявший ясности мысли и завидного здоровья сенатор выразился в том смысле, что «человек, у которого под рукой тридцать легионов, может не спешить».
Гомул растерялся, нахмурился и сел. Не такого отношения он ожидал от своих соратников, тем более от старейшины, посмевшего так грубо и оскорбительно прервать его обличительную речь, к которой он так долго готовился. Гомулу очень хотелось заострить понравившийся ему тезис, что власть в руках слабого, испорченного философскими бреднями человеколюба и, главное, не пользующегося авторитетом принцепса представляет серьезную угрозу для государства. Ему искренне верилось, что он нашел достойный выход из создавшегося положения, в котором с одной стороны стоял ничем не примечательный, почтенный служака и домосед Антонин, а с другой – куда более хваткие, понюхавшие крови в битвах и в борьбе с внутренними врагами магистраты и государственные деятели.
Он к этому вел, а его грубо и беззастенчиво осадили.
И кто?
Человек, который в бытность префектом города лично отдал приказ об убийстве четырех полководцев.
О времена, о нравы! Об этом тоже нестерпимо хотелось поговорить…
Впрочем, ни Ацилий Аттиан, ни другие гости даже внимания не обратили на обиду известного сенатора-краснобая. Все присутствующие знали цену его капризам, среди которых особо выделялась любовь к распусканию гнусных и отравленных сплетен. Именно Гомул пустил слух, что умершая в 137 году супруга Адриана была якобы отравлена по приказу императора. Известна также была его трусоватость, проявленная им в те трагические дни, когда казнили четырех полководцев Траяна. Он тогда первым убежал в кусты.
– Беда, Гомул, не в том, – объяснил свой поступок Ацилий Аттиан, – что Тит так быстро согласился отложить рассмотрение дела по существу, а в том, что мы действуем по зову мелких страстей, каждый сам по себе. В первую очередь это касается тебя, Деций, в который раз поддавшемуся неуместному и несвоевременному словоизвержению! Тем самым мы даем возможность Антонину навязать нам свою волю и, что еще хуже, продолжить капитулянтскую политику своего предшественника. Разве смешанное или раздельное посещение бань грозит Риму какой-нибудь серьезной опасностью?
Смертельная угроза в том, что бородатый поклонник греков, провозглашая равенство провинций, все эти годы упрямо вел дело к тому, чтобы всех подданных великого Рима объявить равноправными гражданами, а это означает начало конца того наследия, которое завещали нам предки и за которое с такой страстью боролся Траян.
Дело не в слабости или человеколюбии Тита Антонина. Кто из нас стал бы протестовать против отмены отживших законов или против признания за провинциями определенных прав – например, по управлению местными бюджетами, но только после того, как новая власть потребует подтверждения лояльности от всех, кто населяет империю, кто пребывает в ней в любом качестве и будет готов выплатить полновесную дань Риму. Я допускаю, что Антонину, возможно, просто не хватает опыта, умения по-новому взглянуть на проблему. Мы должны помочь ему тщательно разобраться в этом вопросе. Если он откажется, надо навязать ему свою волю. И только если он останется глух к требованиям сената, можно будет принять самые решительные меры…
После паузы, которую он сделал, чтобы все присутствующие на встрече сенаторы осознали, на что они покушаются, закончил:
– Я достоверно знаю, что Адриан потребовал от Тита Антонина перед смертью. Наша задача – любой ценой остановить его от исполнения клятвы, которую он дал прежнему принцепсу. Нельзя допустить дальнейшего разрушения государства.
Цивикка Барбар спросил:
– Как же добиться этого?
Бывший префект вздохнул:
– Надо, чтобы сенат большинством вынес постановление, предающее прежнего принцепса проклятию памяти.
Наступила тишина.
Проклятие памятью означало вычеркивание имени прежнего императора из анналов, снос всех его скульптурных изображений, а также отмену его постановлений. Более того, в случае принятия этого решения сенат ставил под сомнение законность власти Антонина, что можно было использовать для смещения недостойного империума домоседа.
Каждый из присутствующих ясно осознал, что согласиться с предложением Аттиана означает переступить черту, отделяющую обсуждение от заговора.
Это был шаг в бездну, из которой тенями выступали мятеж, гражданская война, столкновение честолюбий, кровь и пепел.
Первым после долгих размышлений поддержал бывшего префекта хозяин дома, Катилий Север. Затем почти хором к нему присоединились все присутствующие.
Даже Гомул повеселел. Он обратился с вопросом к присутствующим:
– Но тогда нам необходимо договориться, кто возглавит… э-э… оппозицию?