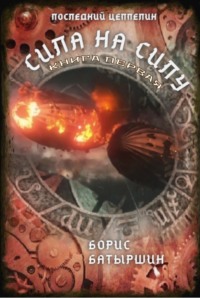Полная версия
День ботаника
Вертикальное пространство Леса белки делили на пять «ярусов». К первому относился подлесок, царство кустарников и стелящихся лиан, не выше третьего этажа панельной многоэтажки. Второй – обычные деревья, редко вытягивавшиеся выше восьмого-девятого этажей домов, где как раз и начинались ветви великанов лесного царства. Те образовывали три следующих яруса – третий, от восьмого этажа примерно до двадцатого, четвёртый, тянущийся ввысь ещё метров на тридцать. И наконец, верхний, пятый – верхушки крон деревьев-гигантов, самые высокие из которых соперничали со сталинскими высотками.
– На Валовой, в первом ярусе, совсем скверно. – продолжала белка. – Похоже, у плевак миграция: я сверху насчитала десятка два крупных выводков. Хорошо хоть, выше второго они не забираются, а то хрен бы я там прошла!
«Плеваками» в обиходе называли плюющихся пауков.
– Вот как в воду глядел, надо идти к Павелецкой. Кстати, о плеваках – мне тут Яша рассказывал… ты ведь знаешь Яшу? Университетский, грибы изучает.
– Как же! – Яська кивнула. – Я к ним иногда заглядываю – то одно, то другое…
– Так вот, Яша уверял, что плеваки были и до Прилива. Особая порода, тропическая, и тоже плевались ядом. Потом какие-то идиоты взяли манеру держать их как домашних питомцев, в прозрачных ящиках.
Белка слушала с неослабным вниманием, даже рот приоткрыла.
– …а во время Зелёного Прилива а эти милые создания выбрались наружу, приспособились, выросли, мутировали. И вот, получите – плеваки!
– А чего они тогда в Чернолесе поселились? Я раньше думала – потому что там всякая дрянь водится, вроде шипомордников, а не нормальные звери. Выходит, не так?
– Выходит, не так. Клык на холодец, хозяева обитали где-нибудь в тех краях, вот они и прижились.
Яська сплюнула и грубо, не по-женски, выругалась.
– Мало в Лесу всякой дряни, так ещё и это! Надо же додуматься – ядовитых пауков дома держать!
Белки, как и их родичи, «аватарки», славились нетерпимостью ко всему, что находится за границами Леса.
Сергей встал.
– Ладно, давай прощаться. Мне ещё мимо Павелецкой идти, сама понимаешь…
Очень хотелось ещё поболтать с симпатичной девчонкой, но время поджимало.
– Понимаю… – белка встала на цыпочки и чмокнула егеря в заросшую щетиной щёку. – Фу, колючий! Ты смотри, осторожнее там, не попадись кикиморам. Кому тогда мой хвост достанется?
Задорно улыбнулась и растворилась в ветвях.
II– Опять двадцать пять! – Егор пододвинул к себе очередной «Журнал учёта». Подзаголовок «Инструктаж Т.Б.» был отпечатан бледным машинописным шрифтом на полоске клетчатой бумаги.
– Расписывался ведь уже. Сегодня. И вчера тоже. Сколько можно?
– Сколько нужно, столько и можно. Согласно инструкции.
Пятидесятипятилетний лаборант Фёдор Матвеевич Фомичёв (коллеги звали его исключительно «Фомич») извлёк из нагрудного кармашка ручку и протянул Егору.
– Вдруг ты в яму провалишься и ногу сломаешь? Или зверя дикого спугнёшь, а он тебя порвёт? Начальство спросит: «почему не довели до сотрудника правила поведения в Лесу? Который, между прочим, есть объект повышенной опасности? А мы ему этот журнальчик: «Как же-с, довели, разъяснили, проинструктировали! Вот, расписался честь по чести». А это значит – что?
– Что?
– А то, что пострадавший нарушил технику безопасности, с которой был своевременно ознакомлен. В соответствии. А значит, проявил халатность, и к руководству лаборатории претензий быть не может.
– Ясно. – вздохнул молодой человек. – Чёрт, не пишет…
Стальное перо карябало бумагу, не оставляя следа.
– Чернила кончились. Дай сюда.
Фомич извлёк из ящика стола пузырёк с фиолетовой жидкостью, отвинтил колпачок, опустил кончик ручки в чернила, поколдовал, посмотрел на свет. Егор поймал себя на мысли, что он похож на средневекового алхимика.
– Китайская! – похвастался лаборант. – Гоша подарил. Нашёл, говорит, в квартире какого-то профессора.
– А кто это – Гоша?
– Потом узнаешь.
Егор уже привык, что почти всё, что окружает его в Университете – родом из середины прошлого века. Но смириться с отсутствием нормальных письменных принадлежностей он не мог. Не мог и всё! Ни гелевых или хотя бы шариковых ручек, ни даже фломастеров – карандаши и «автоматические» перья, которые требовалось сперва заправить чернилами. А то и совсем уж древние приспособления в виде деревянной палочки со стальным пёрышком, которое при письме надо обмакивать в чернильницу. Егор успел попользоваться таким и с ужасом осознал, что писать придётся учиться заново.
Он осторожно взял ручку, вывел в графе фамилию, расписался. К удивлению, обошлось без кляксы.
– Фомич, а что здесь было до Зелёного Прилива?
– Здесь? Университет и был, что же ещё?
– Я имею в виду – на нашем этаже. Тоже кафедра ксеноботаники?
– А-а-а, вот ты о чём…
Лаборант отобрал у Егора ручку, завинтил колпачок и спрятал в нагрудный карман.
– Нет, раньше Биофак сидел в другом корпусе, вместе с почвоведами, а здесь был Мехмат. А когда корпус Лесу достался, нас сюда заселили – математики-то все наружу подались.
– Ясно. Какая математика без компьютеров?
– Именно. Но и у нас с приборами беда. Всё ГЗ обшарили в поисках старого оборудования, в Замкадье кому показать – животики надорвут. А главная беда с пишущими машинками. Если бы не барахольщики, уж не знаю, как и обходились бы…
– Барахольщики?
Он уже во второй раз слышал это слово. Первый раз о загадочных барахольщиках упомянула Лина.
– Есть тут у нас такие, из понаехавших.
– Не понял, из кого?
– «Понаехавшими», – терпеливо объяснил Фомич, – называют тех, кто приехал в Лес из-за МКАД и решил остаться. Было раньше такое словечко. Я вот, к примеру – «понаехавший».
– А я?
– А ты пока просто приезжий. Вот устроишься на постоянку – тогда и станешь «понаехавшим».
– А кто ещё есть?
– Лесовики – это те, кто жил в Москве до Зелёного Прилива, или перебрался сюда давно, лет пятнадцать назад. Коренные, так сказать, обитатели. Есть ещё аватарки, но про них я говорить не хочу, противно.
Егор воздержался от расспросов о загадочных и, по-видимому, не слишком приятных аватарках. Но зарубку в памяти сделал.
– Ещё сильваны – они родились в лесу и никогда не выбираются за МКАД.
– Что, бывают и такие?
– Конечно, а как же? Лесу тридцать лет и за это время у здешних жителей рождались дети.
– Ясно. Так что барахольщики?
– Они шарят по брошенным домам в поисках того, что имеет ценность за МКАД – золото там, ювелирные изделия, антиквариат… Нам от них тоже кое-что перепадает: Университет скупает арифмометры, микроскопы и пишущие машинки, изготовленные до середины прошлого века.
– Почему только до середины?
– Так пластмасса же, будь она неладна! В оборудовании поздних выпусков её полно, и в Лесу всему этому, сам понимаешь, приходит кирдык. А машинка «Москва» 1953-го года выпуска как работала, так и работает. Ну и арифмометры, конечно. «Феликс» – приходилось видеть? Древность неимоверная, но без них мы бы на счётах щёлкали, или столбиком умножали.
Фомич убрал «Журнал учёта» в несгораемый шкаф и залязгал ключами.
– Что-то заболтались мы. Пошли, шеф ждёт.
– Как вам известно, молодой человек, наша кафедра именуется «кафедрой ксеноботаники». А лаборатория, в которой вы числитесь стажёром – «лаборатория экспериментальной микологии». Вам знакомы эти термины?
– «Ксено» – это, кажется, «чужие»? – осторожно ответил Егор. Очень не хотелось ударить в грязь лицом.
– Применительно к нашим обстоятельствам – скорее «иные». Это понятие в Лесу можно отнести ко многому – к растениям, животным, даже к некоторым э-э-э… гуманоидам. И, разумеется, к грибам, которым наша лаборатория обязана своим названием, ведь «микология» – не что иное, как наука о грибах. Когда в 1928-м году Флеминг выделил из штамма Penicillium notatum пенициллин, это сделало микологию важнейшим разделом биологической науки. Но даже этот переворот бледнеет в сравнении с тем, как изменят мир результаты наших исследований – куда там вашей любимой физике!
Когда Егор сообщил новому шефу о том, что после окончания Университета хочет заняться не плесневыми грибками и вообще не биологией, а изучением физической природы Леса, Яков Израилевич пришёл в неистовство. Результатом чего и стала эта лекция.
– …если мы научимся контролировать так называемую «пластиковую плесень», пожирающую в Лесу большинство видов полимеров, мы навсегда покончим с проблемой мусора. Десятки миллионов тонн пластиковых отходов, от которых планета задыхается, будут превращены в удобрения, биологически активные субстанции и новые виды топлива. И это лишь одна из наших тем!
Может, Яков Израилевич и преувеличивал, но не слишком сильно. То, что Егор успел узнать о работе лаборатории, производило впечатление.
– …но для этого предстоит сделать многое. В частности – расставить снаружи контейнеры с образцами. Этим вы с Фёдором Матвеевичем сегодня и займётесь. Инструктаж прошли?
Егор кивнул. Он был слегка обескуражен таким переходом от приступа научного энтузиазма к повседневной текучке.
– Тогда выписывайте у секретаря пропуск на выход в Лес и отправляйтесь. И вот, держите, на всякий случай…
Завлаб выложил на стол массивный пистолет с очень толстым стволом и горсть картонных патронов.
– Ракетница. Зверя отпугнуть или сигнал, случись что, подать – наблюдатели с ГЗ заметят, поднимут тревогу. Ну, чего ждём? Ступайте, ступайте!
IIIЛес щадил дороги, проложенные его двуногими обитателями. И делал это с какой-то загадочной избирательностью: одни тропы не зарастали годами, другие скрывались в бурной поросли после первого же дождя. Казалось, людей таким образом подталкивают обходить одни районы и почаще посещать другие. Большинство не пыталось сопротивляться – тем более, что в таких местах куда реже встречались опасные твари, вроде пауков-плевак или гигантских саблезубых кошек, выходцев из далёкого прошлого Земли.
Но из любого правила случаются исключения. Обитатели Павелецкого омута с некоторых пор взяли манеру разбойничать на торных тропках Садового Кольца и Дубининской улицы. Незадолго до Зелёного Прилива на площади перед вокзалом затеяли строительство подземного торгового центра. Но завершить не успели, и котлован, загромождённый бетонными конструкциями, затопили грунтовые воды.
В результате образовался гнилой, застойный пруд изрядной глубины. Лет пять назад в нём появились хищные октоподы, прозванные "кикиморами" за спутанные грязно-зелёные волокнистые пряди на осьминожьем теле. Эти существа, способные выбираться на сушу и подолгу оставаться вне родной стихии, прижились в Омуте, расплодились и принялись терроризировать округу.
Но вскоре хищники и сами стали добычей. Лесные умельцы научились использовать кожу кикимор – её обрабатывали так, что она приобретала эластичность, не уступая натуральному каучуку. Полученный материал шёл на мехи для воды, подошвы, тяжи охотничьих рогаток, сторожкѝ силков и массу других полезных вещей.
Охота на кикимор была занятием небезопасным – особенно после сильных дождей, когда те выбирались на берег и устраивали засады, закапываясь в набухшую от дождевой воды землю. Зелёные космы делали их почти незаметными, и как правило, жертва узнавала о засаде только когда её со всех сторон захлёстывали щупальца – кикиморы охотились группами по две-три особи.
Что-то подобное и случилось с беднягой, труп которого Сергей обнаружил возле поворота на Дубининскую. Судя по татуированному на бритой голове знаку в виде треугольника с крюками по вершинам – из крупной общины родноверов, обосновавшихся в районе Большой Полянки.
Сергей терпеть не мог поклонников Чернобога за упёртость, склонность к мракобесию и первобытную жестокость: родноверы широко практиковали ритуальные пытки и ритуальный же каннибализм. Но, увидев, во что превратилось тело несчастного, егерь не мог ему не посочувствовать. Щупальца, вооружённые мощными присосками с роговыми крючьями, разорвали брюшину и грудную клетку, и теперь кикиморы увлечённо копались в месиве из кишок, крови и поломанных рёбер. Казалось, они вот-вот довольно заурчат, несмотря на то, что немы, как рыбы, с которыми кикиморы делят среду обитания.
Снаряжение неудачника – ловчий шест с проволочной петлёй и АКМ – валялись неподалёку. Егерь, не сводя глаз с кикимор, подобрался поближе и нашарил в траве автомат. Твари, почуяв его, отвлеклись от трапезы и приняли угрожающие позы, раскинув щупальца веером – предостережение конкуренту, задумавшему покуситься на добычу. Сергей мог, не особо напрягаясь, перебить всех трёх, вовремя обнаруженные кикиморы не так уж и опасны, расправиться с ними можно без стрельбы, одной рогатиной. Но зачем? Даже если закопать недоеденного родновера, сородичи убитых тварей доберутся до тела за считанные часы. Упорства и чутья на падаль им не занимать.
А погибший… что ж, ему отмерялось его же мерой. Родноверы поедали печень убитых врагов, каковыми провозгласили всех, кто не разделял их языческий культ. И чем, в таком случае, они лучше кикимор, которые всего лишь следуют инстинктам? Разве, тем, что кикиморы жрут молча, без затей, а их двуногие родичи обставляют этот процесс камланием и прочими ритуалами.
Стараясь не поворачиваться спиной к угрозе, Сергей обошёл место кровавого пиршества и пошёл прочь, по Дубининской. Отойдя шагов на сто, он остановился и осмотрел добычу. АКМ, в меру потёртый – видно, что сожранный родновер любил оружие и тщательно за ним ухаживал.
«Ну что, сынку, помог тебе твой автоматик? Говорят же умные люди: «Лес не тир и не передовая, тут, прежде чем стрелять, надо сперва подумать – а стоит ли? И уж тем более, когда у тебя в руках не двустволка, а такая вот машинка».
На дереве приклада красовался тот же знак, что и на скальпе покойника. На обратной стороне имел место знак волчьего крюка, а на шейке ложи владелец автомата прорезал ножом пять глубоких бороздок.
«Что ж, всё правильно. Кикиморы встретили своего».
Можно, конечно, продать автомат – на рынке Речвокзала за него дадут полторы-две сотни жёлудей, а на базарчике возле ГЗ – так и все три. Но…
Рядом мостовую рассекал широкий разлом. Мутная жижа, заполнявшая его, булькнула, принимая смертоносную железяку. Егерь старательно вытер ладони пучком травы, словно избавлялся от въедливого запаха, и зашагал по тропе, в обход полуразрушенного здания вокзала.
IVЗадание показалось несложным: выбраться наружу через сектор «В», предъявив пропуск охраннику, скучавшему возле крупнокалиберного пулемёта, пересечь двор, миновать наружную проходную. Пройти через автостоянку, перебраться через узкий каньон, в который превратилась улица Менделеева, и расставить на противоположной стороне десяток дырчатых алюминиевых ящичков, воткнув возле каждого арматурину с красной тряпкой.
И всё. По прямой – жалких три сотни метров. Егора даже огорчило, что его первая полевая операция оказалась такой ерундовой.
Но на деле всё оказалось не так просто. Подлесок, бурно полезший из-под земли после ночного ливня, неузнаваемо изменил тропки, в изобилии протоптанные вокруг Главного здания. В двух десятках шагов от выхода тропу преградил ряд высоченных, в полтора человеческих роста, грибов с вытянутыми вверх сморщенными шляпками. Эти сморчки-переростки македонской фалангой встали на пути к коробке проходной, и обойти их не было никакой возможности.
«Вот тебе и экспериментальная микология… – ругался Фомич, рассекая белёсые, ножки, усеянные бледно-лиловыми пупырями. – К бениной маме такие эксперименты, я лучше в кладовщики попрошусь…»
С первых же шагов они промокли насквозь – не помогли и плащ-палатки, наброшенные поверх рюкзаков. Дождь давно прекратился, но струйки воды с ветвей, с листьев, со шляпок грибов, обдавали с ног до головы при каждом шаге. Трава, высокая, ярко-зелёная, вылезшая сквозь раскрошенный асфальт, тоже насквозь пропиталась влагой.
Бывшую автостоянку)по уверениям Фомича, вчера ещё проходимую) перегораживали два рухнувших крест-накрест толстенных дерева. Преодолевать такое препятствие поверху желания никто не выказал, а дорога в обход заняла не меньше часа – сквозь сплошной бурелом, густо затянутый проволочным вьюном, под рюкзаками с контейнерами и связками шестов.
Дощатые мостки смыло ночным паводком, но одна из ветвей упавшего великана удачно легла поперёк каньона. По ней-то они и перебрались через провал, избежав утомительной и рискованной возни с верёвками. «Ничего… – ворчал Фомич. – Мичуринцы к вечеру починят, им же надо как-то ходить на рынок ГЗ?» На вопрос Егора «кто такие мичуринцы?» заслуженный лаборант объяснил, что так называют фермеров из посёлка на территории Ботанического сада МГУ. «Груши у них – объедение! – причмокнул Фомич – И других фруктов полно – ананасы там, фейхуа…»
С контейнерами покончили быстро, благо, на той стороне подлесок разросся не так буйно, уцелела даже тропка, протоптанная вдоль ограды Ботанического сада. Воткнув последний шест, напарники решили перевести дух перед возвращением.
Фомич пошуровал древком рогатины в траве – не притаилась ли там какая-нибудь кусачая пакость? Сел на ствол поваленной липы (нормальной, не великанской), извлёк из кармана кисет и свернул самокрутку.
– Вот так оно и в Лесу и бывает, стажёр. Сегодня есть тропа, а завтра – такой бурелом, что лешак ногу сломит. Поди, угадай!
Егору хотелось обматерить напарника за то, что тот поленился подняться на башенку корпуса «М» и оттуда, с верхотуры, осмотреть маршрут. Тогда бы и гадать не пришлось – знали бы точно, где и какие препятствия их ждут. Но портить отношения с коллегой не стоило. Хотя бы, до конца стажировки.
– Классная штука! – он показал на рогатину Фомича. – А мне такую даже не предлагали.
Инструмент, и правда, был хорош. Полутораметровое древко заканчивалось лезвием, вроде длинного, широкого ножа с толстым обушком – оно с одинаковой лёгкостью рассекало и завесу проволочного вьюна, и ножки гигантских сморчков, и перепутанные ветви.
– Это не со склада. – пояснил лаборант. – Один егерь, известный в Лесу человек, подарил нашему Шапиро. Только он сам из ГЗ носу не кажет из-за эЛ-А, вот и даёт мне. Это здешняя, лесная придумка, наподобие якутского копья «пальма». Удобная штука, дорогу в подлеске прорубать – лучше не придумаешь.
Сам Егор сражался с буреломом при помощи мачете – обычной рессоры, выпрямленной, заточенной и снабжённой деревянной ручкой. Мачете выдал перед выходом прапор-завхоз, и долго наставлял на предмет бережного отношения к казённому имуществу.
– Где бы и мне такую добыть? На рынке?
Он собирался заглянуть туда после вылазки – прикупить на ужин местных «фермерских» продуктов.
– На рынке ты пальму не найдёшь, – разочаровал лаборант. – Работа лучшего в Лесу мастера. Бич – это егеря так зовут – говорил, что его кузня стоит на железнодорожном мосту, и туда не всякого пускают, а только своих, знакомцев. Ты лучше нож хороший купи, твоё-то барахло годится только банки открывать.
И пренебрежительно ткнул пальцем в штык-нож. Ноготь у лаборанта был тёмно-жёлтый, табачный.
– Закуришь?
Егор принюхался к дыму.
– Травка?
– Зачем? – удивился Фомич. – Обычный табак. Челноки таскают с Филей, тамошние фермеры выращивают. Дурь нужна – поспрошай на рынке, там её полно, всякой. Но если надумаешь брать табак – спрашивай только филёвский, он самый забористый. Ну и травка у них тоже ничего, вштыривает.
– Что, так прямо, в открытую, и торгуют?
– А чего скрывать-то? Нет, поначалу, конечно, запрещали, но когда выяснилось, что здешние наркотические средства не вызывают привыкания – бросили. Только я тебе не советую. Шапиро крепко этого не одобряет, узнает – уволит без второго слова.
– Но если местная наркота не даёт привыкания, её же за МКАД с руками оторвут! Все жители Леса озолотятся!
Фомич плюнул в ладонь, затушил самокрутку и хозяйственно припрятал окурок в кисет.
– А на кой ляд им это? Деньги здесь никому особо не нужны, золота и камешков в квартирах и ювелирках столько, что за сто лет не выскрести. Всё, что нужно, людям даёт Лес, а чего не хватает – можно поискать в брошенных домах. Или на рынке выменять. К тому же, большинство замкадных товаров в Лесу бесполезны.
– И всё же – не понимаю! – продолжал упорствовать Егор. – Это же золотая жила! Наверняка должен быть способ…
– Штука в том, что привыкание-то есть, но не к наркоте, а к самому Лесу. Это называется «Лесной Синдром» или «Зов Леса». В какой-то момент замкадника, подсевшего на лесную дурь, начинает мучить депрессия и сильнейшие головные боли. Кстати, то же самое относится не только к наркоте, но и к лекарствам и всяким там биоактивным добавкам, произведённым из лесных компонентов. Медицина тут бессильна, единственный выход – не удаляться от Леса. А лучше вообще перебраться сюда.
– Но ведь Аллергия…
– А я о чём? Нормально жить снаружи такие люди не могут – спятят, или покончат с собой. Как-то существовать можно только в узкой, пару километров шириной, полосе вдоль МКАД. А вот если у человека Зелёная Проказа – тогда всё, прямая дорога в спецсанаторий.
– Зелёная Проказа? Это ещё что такое?
Фомич скривился – то ли брезгливо, то ли от горечи, будто раскусил зёрнышко чёрного перца.
– Слушай, давай сменим тему, а? Неохота об этой пакости.
«Не много ли накопилось загадок? Зов Леса, сильваны, спецсанаторий, проказа какая-то зелёная… Рано или поздно придётся с этим разбираться, если, конечно, хочешь сделать то, ради чего явился в Московский Лес…
VНа левом берегу Москвы-реки, возле Новоспасского моста почти не осталось целых домов. От двух- и трёхэтажек постройки начала прошлого века и плоской индустриальной коробки Лес оставил груды строительного мусора, укрытые толстыми подушками мха и дремучим кустарником. Уцелела, разве что Г-образная сталинская восьмиэтажка, одним фасадом выходящая на въездную эстакаду моста а другим – на набережную. Там и дожидался Сергея вызванный из Нагатинского затона лодочник.
Пирога была хороша. С ротанговым каркасом, обтянутым древесной корой, она радовала глаз жёлтым, солнечным оттенком и индейскими узорами на высоких гребнях носа и кормы. Сергей закинул внутрь рюкзак и осторожно забрался сам. Лёгкое судёнышко качнулось, и он едва не полетел в воду.
– Полегче, Бич! – засмеялся лодочник. – Я не собирался принимать ванну, вода сегодня холодная!
Посылая белку к адресату, егерь не зря назвал того «индейцем». Николай Воропаев, известный обитателям Москвы-реки как «Коля-Эчемин» попал в Лес не через Речвокзал или ВДНХ. Он пересёк МКАД в районе Лосиноостровского парка и бесстрашно углубился туда, куда далеко не всякий коренной обитатель Леса отважился бы явиться незваным. Коле повезло: после долгих, изнурительных скитаний он добрался до селения Пау-Вау, на юге Сокольников – куда, собственно и стремился, затевая рискованное путешествие.
Матёрый экстремал-каякер, прошедший самые сложные сплавные маршруты планеты, Коля всерьёз увлекался индеанистикой. Вместе с другими поклонниками образа жизни североамериканских аборигенов, он ежегодно раскидывал шатёр-типпи на «Российской радуге». И, как многие в этой среде, грезил Московским Лесом, где давно обосновалась интернациональная община «индейцев».
ЭЛ-А, Лесная Аллергия, непреодолимая для подавляющего большинства обитателей планеты, Колю пощадила. Обитатели Пау-Вау – так называются собрания коренных американцев, а заодно, фестивали поклонников «индейской» культуры – приняли его легко. Здесь принимали всех, кто готов жить, следуя их немудрёным правилам.
С ними Коля провёл около года. Получил новое имя «Эчемин», обзавёлся ножом «бобровый хвост», мокасинами, штанами и рубахой из оленьей замши и отрастил длинные волосы. Их он заплетал в косицы, свисающие до плеч – с крупными бусинами и пёрышками выпи, своего тотемного животного. Но главное, построил пирогу, которая и дала ему новое имя: на языке племени наррангасѐт «Эчемин» означает «человек, плывущий на лодке».
И с этого момента Коля-Эчемин оказался потерян для Пау-Вау. По Яузе он добрался до Москвы-реки, и там встретился с «речниками» – обитателями Нагатинского затона, крепкой общины, прибравшей к рукам сообщение по всем водным артериям Леса. Здесь Коля быстро стал своим и проводил в Нагатинском затоне куда больше времени, чем на берегу Богатырского пруда. Впрочем, он регулярно наведывался к соплеменникам, участвовал в их ритуалах и с удовольствием сидел у Большого Костра, где передавали по кругу курительные трубки и кувшины с пивом. Он даже обзавёлся постоянной подругой, вдовой соплеменника, погибшего на охоте, которую звал Моема – «сладкая» на языке индейцев. Коля привозил Моеме изделия мастеров, обитающих в разных краях Леса – украшения из бисера и тиснёной кожи, сработанные в Пойминском Городище, керамическую посуду из Монастырского острога, что на берегу Яузы, искусные курьяновские вышивки. В ответ женщина разукрасила его рубаху плетёными из цветных шерстинок и кожаных ремешков пёстрыми индейскими орнаментами с тотемными животными, геометрическими фигурами и изломанными линиями – в знак прочности отношений.