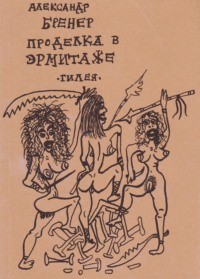Полная версия
Ева-пенетратор, или Оживители и умертвители

Александр Бренер
Ева-пенетратор, или Оживители и умертвители
По сравнению с животными и растениями человек по своему поведению неприличен.
Андрей Платонов© А. Бренер, 2020
© А. Бренер, Б. Шурц, иллюстрации, 2020
© ИД «Городец-Флюид», 2020
© П. Лосев, оформление, 2020
Оживители и умертвители
Когда-то люди делились на охотников и собирателей.
Потом Хлебников разделил их на изобретателей и приобретателей.
Но сейчас мы уже на самой последней стадии.
Сейчас все существа делятся на оживителей и умертвителей.
Вот, например, кошка.
Она способна умерщвлять птиц и мелких зверей вроде мыши.
Но бездомный несчастный котёнок может оживить мёртвую душу.
А люди?
Главные умерщвления на Земле происходят от человека.
Человечество – Великий Мировой Умертвитель.
Вся планета превратилась в одну громадную лабораторию, где производятся старые и новые способы умерщвления.
Хорошо сказал древний отшельник: «Гуляя по горам и низинам, любуясь рыбами и птицами, радую сердце своё. Ничто так не утешает, как скитания вдали от людей – там, где свежи воды и травы».
Да.
Это правда.
Ну а сам-то я кто – пишущий эти строки?
Умертвитель или оживитель?
Неплохой вопрос для всякого человечка.
Умертвитель я?
Или оживитель?
Так ведь дело в том, что меня не существует.
Моё «я» всё состоит из обломков.
И они враждуют, сталкиваются, прут друг на друга.
Один обломок вопит: «Жить!», а другой: «Умереть!», один скрежещет: «Деньжат бы!», а другой: «Всё к Богу послать бы!»
Сплошная и бесконечная распря.
Один малюсенький обломок хочет праздновать жизнь и оживляет мозги, зрение, сердце, сухие листья, голоса птиц, пчелиную мумию, прохожую нимфу, тебя, читатель.
А другой, громадный, обломок умерщвляет всё, к чему прикоснётся: совесть, страсть, память, Варьку, дождь, мудрость, небо.
Это дурно.
«Я» вообще нужно выкинуть из алфавита.
Нужна Идея, а не «Я» – Идея Немедленного и Повсеместного Оживления Жизни.
И чтобы этой Идеей всё человечество заразилось, как однажды я – гонореей.
А может, нужна нужда, а отнюдь не Идея?
Нужда в львиных лапах, оживляющих жизнь обессиленных старцев?
Нужда в голом животе амазонки, чей пупок воспламеняет подростка?
Нужда в воинственном духе и непослушании строителя баррикады?
Нужда в пробуждении, которое содержится в стихах Пессоа или в цепком мохнатом прикосновении гусеницы, случайно упавшей за шиворот?
Нужда в Еве-пенетраторе – древней богине, из чрева которой исходит могучий Змей-Оживитель?
Нужда в слонах, не скрывающих своей ярости при виде тебя, человек?
О, помяните меня в своих молитвах, оживители!
А вы, умертвители, лежите в своих могилах!
Искусство
Искусство умудрялось оживлять человека.
Как ему это удавалось?
Да так: поглядишь на «Олимпию» Мане – и обомлеешь.
Прочитаешь «На железной дороге» Блока – и содрогнёшься.
Всё, что может нас оживить, собрано здесь, перед глазами, только нужно открыть эти глаза и сердце.
Я обожал чужое творчество, но не знал, как им пользоваться, – и сам захотел рисовать и писать поэмы.
Но удалось ли мне хоть раз оживить искусство?
Не знаю.
Будто и не жил!
Давно это было: человек пригласил меня сделать выставку в Милане.
Энрико Коми – так его звали – престарелый энтузиаст искусства.
Поэт, переставший писать стихи и открывший нищую галерейку.
Выставлял там убогие артефакты.
Он говорил: «Эта галерея – продолжение моей поэзии и жизни».
Какой жизни, Энрико?
Иногда жизнь нужно не продолжать, а оборвать – и начать другую!
А почему он решил пригласить меня?
Не знаю.
Возможно, Энрико думал, что я оживлю его: расчешу своими когтями его тайные неизъяснимые язвы.
Галерейка у него была малюсенькая – спичечная коробка.
Я не знал, как там стоять, как повернуться.
И какие спички найти, чтобы поджечь эту спичечную коробку?
Я решил: повешу на стены фото тогдашних президентов.
И вырезал их из газет: Ельцина, Клинтона, Ширака, Манделу и прочих.
И повесил.
На вернисаж пришли какие-то девы, студенты.
Я сел на пол посреди этой клетки, разулся.
И стал сосать на ноге большой палец.
А потом ругал грязными словами всех президентов.
Молодые люди глазели, разинув пасти.
А мне надоело.
Я вскочил и в бессильном гневе сорвал со стен фото.
Это, что ли, было моё оживление жизни?
Не знаю.
Мне стало стыдно – я выскочил из галерейки.
Быть на воздухе в любом случае лучше.
Я бежал сломя голову к белоснежному Миланскому собору.
Свернул в переулок, вижу: рестораны, бутики, камни.
Там стояли ящики с карликовыми деревцами: мандарины, лимоны.
Я – ни с того ни с сего – перевернул один ящик.
Земля вывалилась, корни деревца обнажились…
Это, что ли, было моё искусство?
Оживил я его этим?
Или просто-напросто умертвил растение?
Кто ответит мне на этот вопрос?
Ты, Энрико?
Сам я уже ничего не знаю.
Я хожу на ногах – обгоревших спичках.
Между ними болтаются мои красные яйца.
Эй, Энрико, почему бы нам не встретиться и не поглядеть друг на друга?
Посмотрели бы, как ссохлась наша душа, как оскудели мысли.
Ты меня накормил в своём доме жёлтой горячей полентой, помнишь?
Скажу тебе за это ещё раз спасибо.
Я тогда впервые попробовал это плебейское блюдо.
И подумал: «Всё же лучше перловки».
А твоя жена сидела за столом беззубая и косматая – настоящая старая ведьма.
Но она не пеняла на жизнь и глядела на тебя как на извлекателя квинтэссенции, Энрико.
Может, она верила, что мы с тобой – неспокойные оживители жизни?
Или просто доживала жизнь с неудачником-мужем?
Шалость-освежитель
Долгое время я думал, что вместо искусства нужна шалость.
И действовал в соответствии с этой идеей.
Дети оживляются от своего бесчинства.
Я следовал их примеру.
Однажды в Лондоне я забрёл в аукционный дом «Сотбис» на Бонд-стрит.
В тот день там проходил аукцион работ Дэмьена Хёрста.
Это очень, очень, очень богатый предприниматель.
И довольно заурядный художник.
Аукционный зал был полон.
Я всё-таки нашёл свободное место.
Происходили торги – как и полагается в «Сот-бис».
На подиум одна за другой выносились работы Хёрста – «Spot Paintings», «Spin Paintings», «Kaleidoscope Paintings» – и с молотка продавались.
Сбыт искусства шёл бойко.
Сперва я наблюдал с любопытством, а потом меня затошнило.
Я подумал: «Пошалю немножко».
В тот момент на продажу была выставлена большая картина с мёртвыми бабочками, влипшими в яркую краску, – живописная стряпня Хёрста из серии «Butterfly Colour Paintings».
Клерк поднял молоточек.
Я крикнул:
– СРИ!
В переполненном зале воцарилась молчанье.
«СРИ» – это могло означать две вещи: цифру 3 (three) по-английски и слово «срать» по-русски.
Понимай как хочешь.
Клерк с молоточком обратился ко мне:
– What do you mean, sir?
А я как из пушки:
– СРИ!
И состроил весьма идиотскую рожу: выпучил зенки, вывалил язык, пустил слюнку.
Все вокруг уставились на меня, как на чудо-юдо.
Клерк что-то промямлил, но я не расслышал.
И опять:
– СРИ!!! – во всё горло.
Они не могли понять: то ли я дебошир, то ли русский олигарх с похмелья.
Они соображали: а вдруг я страдаю какой-то душевной болезнью, но хочу купить картину за три миллиона…
Клерк попробовал торговать опять, но я остался помехой:
– СРИ! СРИ! СРИ! СРИ!
Появились вышибалы.
Они действовали деликатно: знаками попросили меня удалиться.
Я наотрез отказался и заорал очень буйно:
– СРИ! СРИ! СРИ!
Тогда они потащили меня вон из зала.
Люди отворачивались, прятали лица.
В вестибюле возник лучезарный джентльмен в искромётном костюме:
– Are you OK, sir?
Он тоже сомневался: может, я – эксцентричный миллионер из Сибири?
А я ему в рожу:
– СРРРИИИИИИИИИИИ!
Но он, кажется, не обосрался.
А жаль – это могло бы превратить его в Собаку Баскервилей.
Как сказал Андрей Платонов: «Жил с людьми, – вот и поседел от горя…»
И всё-таки я в тот день повеселился и ожил.
Всё вокруг ожило: люди, Бонд-стрит, город Лондон.

Между кадавром и кентавром
Один критик сказал, что я – слабый писатель.
Всегда, мол, пишу о себе, – во всех своих книжках.
О себе, о себе, о себе – а иначе, мол, не умею.
Разве это не слабая литература?
Очень слабая, – так рассудил критик.
Но это, конечно же, глупость.
Во-первых, я вообще не писатель.
Я – пишущий.
И это разделение важно.
Во-вторых, я пишу не о себе, а о некоем существе, живущем в каждом и каждой.
О «сокровенном человеке», как сказал однажды Платонов.
О Дон Кихоте, как назвал его Сервантес.
О том князе Мышкине, который родился в сердце и умер.
О душевной, внутренней твари, требующей оживленья.
Иногда это гиена.
Иногда мессия.
Иногда Чжуан-цзы.
Иногда потерянный кот.
Иногда дурачок.
Иногда шишига или ангел.
Иногда Тиль Уленшпигель.
Иногда Оливер Твист.
Иногда ёжик.
И это существо, троглодит, чудо, чудище, бестия, созданье есть в каждом из нас – и во мне, разумеется, тоже.
Я верю, я осязаю: мне каждый день, каждый миг следует жить, а я не справляюсь, не смею!
Я не умею жить во весь дух, здравствовать в полную мощь, быть в живых что есть силы.
Я существую слабо и дурно.
И пишу поэтому плохо.
Я умерщвляю в себе Гека Финна и Моби Дика – исподтишка, потихоньку.
Я умерщвляю их, потакая жлобам и мерзавцам; кивая той поганой мелодии дня, что звучит отовсюду.
Я умерщвляю их, когда сыт, обут и доволен собою.
А когда я хочу оживить в себе мальчугана, сбежавшего из казармы, то ленюсь и мертвею.
Об этом вот и пишу – о падениях и неудачах, о провалах, ошибках и неспособности оживления жизни.
Но они – эти ошибки – мои-не-мои, не только мои, но и ваши.
Потому что никто вообще не справляется с оживлением жизни.
Может быть, даже Пушкин…
Я пишу о своём примере, потому что знаю его чуть лучше.
А другие пусть о своих примерах расскажут.
Понимаешь, читатель?
Задача каждой живительной книжки и каждого оживлённого слова: найти в человеке – в его сердцевине – того дикобраза, который не только ощерится всеми иглами на своего убийцу, но и откроется для становления птицей.
Иными словами: расконопатить сердце.
– Стучат в дверь!
– Стучат в дверь!
– Стучат в дверь!
Так сказал Сесар Авраам Вальехо Мендоса.
Оживительница из Сан-Кристобаля
Однажды мы с Варькой путешествовали по Мексике.
Давно это было – в прошлом веке.
На старых автобусах – из одного мексиканского штата в другой – по пыльным дорогам.
Я тогда ещё не знал, что такое глаукома, и смотрел в оба глаза.
Мексика – страна бедная, населённая непреклонным народом.
Его втаптывали в глину, в прах, в асфальт, в мусор, – а он вставал фантомом в волнах ацтекского жара.
Этот народ возникал перед нами внезапно – на пустом месте, рядом с кактусом-великаном, в голом пространстве.
Едем и видим: стоит на дороге то ли семья, то ли банда, то ли коммуна: дед, бабка, мать, отец, подростки, младенцы.
Стоят с закопчёнными лицами, с чемоданами и узлами, – и ждут чего-то.
Нашего автобуса, что ли?
Только старый индеец сел в автобус, а остальные так и остались на дороге.
И исчезли в клубах пыли.
А мы ехали, жуя маисовые лепёшки с авокадо.
Наконец оказались в штате под названием Чьяпас.
Там действовали вооружённые повстанцы – сапатисты.
Их возглавлял человек, чьё лицо скрывала маска, – Субкоманданте Маркос.
Мы мечтали: а вдруг его встретим?
И он скажет нам: «Будем вместе».
Скажет: «Станьте, как я, другими», – и мы тут же станем.
Но нет – мы не повидали Субкоманданте.
Ну и не надо.
Мы уже сами знаем, как совместить «созерцание» и «действие» на свой лад – дуралейский.
Зато вместо Субкоманданте мы встретили кое-кого рангом повыше.
Это случилось в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.
Там я выпал из автобуса, как гнилой плод манго.
И лежал на скамейке возле автобусной станции – поближе к сортиру.
Дело в том, что у меня открылась страшная диарея.
И дико подскочила температура.
Из разверстого зада текло, текло и текло – до полного умора.
Мои геморроидальные шишки набрякли и лопнули – понос окрасился кровью.
Я испортил единственные штаны, но не думал об этом.
Я был перепуган, а потом провалился в морок.
Варька держала мою голову на коленях.
И тут к нам подошла женщина – не старая, не молодая.
Коричневое лицо и резкие вокруг рта морщины.
А ещё у неё петух сидел за пазухой – рыжий петел.
Это было его излюбленное местечко.
Женщина не сказала ни слова – ни тогда, ни после.
Она оказалась немая.
Жестами она показала: «Идите за мной».
И мы подчинились – её милости, её твёрдости и её благородству.
Или нужно просто сказать: её безупречному духу?
Она отвела нас к себе – в хижину, а не в трущобу.
По дороге я многократно извергся кровавой жижей.
Мы очутились в комнате, разделённой цветной занавеской.
Она положила меня на узкую койку.
И принесла дымящийся мутный напиток.
Я его выпил – кисло и горько! – и вскоре забылся.
В этом доме мы провели несколько суток.
Она нас кормила чёрными бобами.
И давала мне мутный напиток.
А Варька перестилала мою постель, ведь я гадил под себя ненароком.
Наконец понос прекратился.
Я заново родился.
Эта жизнь была словно в сказке.
Как сказал Н. О. Лосский: «Взрослый человек способен увидеть жизнь в её глубинном аспекте, только когда выздоравливает от тифа».
Вот именно: в глубинном аспекте.
Кочет сидел за пазухой у индианки и клевал с её ладони разноцветные зёрна.
Женщина хранила молчание.
Хорошо, когда человек не ворчит, не кричит, а просто дышит, как облака и деревья.
Какие-то травы свисали с потолка – пахучие и сухие.
На глиняном полу лежала зелёная подстилка.
А в приоткрытой двери – гора навоза.
Навозные мухи влетали в комнату и гордо садились на стены.
Мухи – вестницы жизни и смерти – предвещали мне то и другое.
Там я впервые осознал присутствие жизни, смерти и ещё раз жизни.
Жизнь – она вечно чужая, а во мне – один лишь её недостаток.
Жизнь – упускаемая и упущенная возможность.
Горе мне – я родился таким одиноким!
Чтобы почуять жизнь, нужно слипнуться с ней, как навозная муха, нужно быть петухом под рубахой немой индианки.
Ощущать её запах, поступь и стук безупречного сердца.

Два мастера
Один русский писатель сказал: «В тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю вселенную».
Это точно.
Во всяком случае, так было.
«Уйти со своего двора» – чтобы всю землю покрыть анафемами и осаннами, а потом раствориться в небе.
А ещё есть притча о старинном японском дзэн-мастере, проведшем долгие годы в Китае, где он постигал древнюю мудрость.
Когда этот человек вернулся в Японию, его спросили:
– Какое высочайшее знание вы принесли с собой?
Он ответил:
– Я пришёл к вам с пустыми руками.
Вот слова истинного оживителя-любомудра.
Давняя лекция в академии Брера
Увы, у меня никогда не было хорошего учителя – ни в детстве, ни позже.
Своих школьных учителей я смертельно боялся и ненавидел.
Мария Порфирьевна, моя первая училка, сказала маме:
– Что бы вы ни делали, из него всё равно выйдет подонок.
Учительница истории усмехалась:
– Ты думаешь, ты умный? Ты всего лишь хитрый.
А учительница математики приговорила:
– Ты бездарен, и это непоправимо.
Разумеется, такие суждения не оживляют щенка в школьной форме, а умерщвляют его дух и тело.
Учителя – они почти всегда на мелких побегушках у победителей и приобретателей.
А я, щенок, взыскую великого оживления – пусть оно даже кончится несомненным крушением.
Учителя в большинстве своём – офисные умертвители.
Само пребывание в школьных стенах умерщвляет – как в ведомствах, аэропортах и тюрьмах.
Прав был Аристотель, выгуливавший своих перипатетиков в садах Ликея.
Небо – лучший учитель.
Я это понял давным-давно – в миланской Академии изящных искусств Брера, где читал лекцию о Филонове.
Меня пригласил туда куратор с красивым именем и лицом тоскующего коршуна – Джачинто Ди Пьетрантонио.
Джачинто бывал в Москве и интересовался творчеством русского гения – Павла Николаевича Филонова.
Филонов знал, что всякий человек состоит из множества разноцветных атомов, льдинок, ризом, корпускул, хромосом, газообразных элементов, плазмид и кристалликов.
Человек Филонова весь в развалах и трещинах – и норовит раствориться в хаосмосе.
Но одновременно он твёрд как скала – как тайные письмена, в скале вырезанные.
Главную живописную идею Филонова можно выразить следующей двуединой формулой: распыление тварей во вселенской трухе – и собирание их в твердокаменную материю бытия-сопротивления.
Об этом я и говорил на той лекции: о людях-осколках и существах-валунах.
А потом вдруг почувствовал, что задыхаюсь в стенах Академии.
Не моё это дело – лекции…
Я замолк и позвал слушателей на улицу.
Там было синее-пресинее небо, а прямо напротив каменного здания Академии стоял банк с застеклёнными окнами.
В этих окнах отражались все мы: я, мои слушатели, архитектурные строения, светозарное небо, солнечное сияние…
Я вытащил из кармана штанов заранее припасённый булыжник.
И – бух! – швырнул его в банковское окошечко.
От удара стекло не разбилось, но покрылось трещинами.
Чем-то оно напоминало теперь картины Филонова.
Я посмотрел на своих слушателей:
– Каждая лекция должна кончаться именно так!
И почувствовал в животе огромное оживление.
Это было хулиганство, конечно же, – зачаточное, ребяческое.
Ну и что?
А банки, обкрадывающие людей, – разве не хулиганство?
Ещё какое хулиганство – злостное, мерзопакостное!
А вся нынешняя мировая экономика, убивающая жизнь на планете Земля?
Ужасающее хулиганство – глобальное, непереносимое.
Экономика есть главный умертвитель сейчас – самый предприимчивый.
К счастью, никто из банка тогда не выскочил, в полицию не пожаловался.
А Джачинто Ди Пьетрантонио на меня слегка за эту выходку обиделся.
И тоже был рад, что не появилась полиция.
Ну а оживился ли он в тот момент – об этом его надо спросить.
Жюльен, оживитель книг
С мёртвыми поэтами, рассказчиками и философами нужно обращаться так, словно они стоят перед тобой, как дикий зверь в чаще.
Следует учиться их дикости – в этом весь фокус.
Как говорил Сесар Вальехо: «В тот момент, когда философу вдруг открывается новая истина, он совсем как зверь».
Читатель, следуй за автором по его тайной звериной тропе – в бурелом мятежной жизни.
Книги – приключение и приглашение к поступку.
Только так их и можно читать; остальное – халтура.
Кое-кто, прочтя четырнадцать строк, засыпает.
А кое-кто планирует нападение на полицейский участок.
Это в совершенстве постиг Жюльен Купа – французский бунтарь и мыслитель.
И я тоже пытался читать, как подобает мальчишкам.
Я листал книгу «Дон Кихот», а потом выбегал на улицу и освобождал кудлатую псину, угодившую в руки собачника.
Я проглатывал «Манон Леско» и, подобно кавалеру де Грие, становился жертвой любовного недуга.
Я пожирал роман «Бесы» – и превращался в Ставрогина, хотя бы на день.
Я читал биографию Малкольма Икс и делался духовным лидером угнетённых – на каком-нибудь поганом вернисаже.
Жульен Купа был, конечно, умнее.
Мы с ним разговаривали о книгах в Париже.
А потом ели хлеб с шоколадом.
А потом он показал нам с Варькой, как жечь бастилии нынешних сюзеренов.
В то время Жюльен читал Вальтера Беньямина.
А над знаменитым философом Аленом Бадью Жюльен смеялся.
Он говорил, что иногда встречает Бадью на улице и спрашивает:
– Как там ваша метафизика?
А Бадью отвечает:
– Жива пока.
На что Жюльен:
– Да вовсе она не жива. Это вы её труп оживляете.
Что касается Жака Рансьера, то Жюльен в грош его не ставил:
– Это философия, пропущенная через мясорубку.
Зато Беньямина он читал так, словно никто его не читал во всей вселенной – до первочитателя Жюльена.
А ведь Беньямин затаскан, затрёпан, засален академиками, замусолен интерпретаторами, замордован художниками-активистами.
Но Жюльену на это было плевать.
Он выискивал в беньяминовских текстах смыслы, обращённые прямо к нему, Жюльену.
Он читал Беньямина не только глазами-мозгами, но сердцем-руками-ногами, плечами, лопатками и позвоночным столбом.
От такого чтения вырастают крылья, рога и когти и взвиваются хвост и грива.
Жюльен согласился бы на сто процентов со следующим высказыванием Платонова: «Искусство есть процесс прохождения сил природы через существо человека».
Иными словами: образы и идеи, истории и поэмы нужно переживать всем духом, хребтом и конечностями осьминога.
Жюльен проверил на себе и другую платоновскую истину: «Жизнь состоит в том, что она исчезает».
Как с этим бороться?
Осмысляя жизнь в слове.
И лучше это делать коллективно, сообща, совместно – как древние коммунисты в римских катакомбах.
Коллектив Тиккун, частью которого был Жюльен, опубликовал эссе под смешным заголовком – «ПРОБЛЕМА ГОЛОВЫ».
Там сказано, что главным провалом художественного авангарда было его заключение в черепной коробке.
«Неотъемлемой частью краха, постигшего коллективное предприятие под названием „авангард“, стала его неспособность создать мир. Весь блеск, все находки, все деяния авангарда не смогли дать ему тела; всё случилось лишь в отдельных головах, где органическое единство ансамбля расцвело буйным цветом, но только для сознания, то есть напоказ, наружно».
Противоположностью такой показухи является форма-жизни, избегающая всякой репрезентативности, следующая своей внутренней логике, идущая путём бунта и бегства.
Художественный авангард был умерщвлён музеем; форма-жизни осуществляется под открытым небом, в тайном укрытии, в интенсивности встреч и конфликтов, в цепочках дружб, в создании орудий и техник борьбы, в уникальных обстоятельствах эпохи.
Неотъемлемой частью формы-жизни является опыт.
Книга – один из источников опыта.
У Жюльена доставало ярости, радости и упрямства, чтобы читать книги так, как того хочет любая страница: чтобы её проживали, а не жевали.
Чтобы её разжигали.
Говорят, Хлебников читал книги, отрывая прочитанные страницы.
К концу чтения книга исчезала – проглатывалась читателем.
Жюльен проживал, сжигал и оживлял мысли Ницше и Хайдеггера, Беньямина и Фуко, Делёза и Агамбена.
Он восхищался «Человеком без свойств» Музиля и «Zoo» Шкловского – находил в этих книгах счастливые дары, которыми делился.
Он сказал мне:
– «Against His-Story, Against Leviathan!» Фреди Перлмана – вот хороший способ переживать мировую историю.
А «Историю Пелопоннесской войны» Фукидида Жюльен ненавидел.
Он уважал писания Огюста Бланки – великого заговорщика и повстанца.
Он пользовался книгами как инструментами, как орудиями, как необходимым добром.
Он читал мемуары кардинала де Реца, чтобы почерпнуть в них примеры непокорства и опыт мятежной Фронды.
Он любил Кафку и назвал его коммунистом в поисках коммуны.
Жюльен верил, что писание книг трансформирует пишущего, превращает его в инсургента, в нищего, в святого, в ангела, в демона, в созвездие, в цветок.
Или в машину для писания книг – в эстетического монстра.
Не было ничего более враждебного и чуждого Жюльену, чем эстетический подход к искусству.