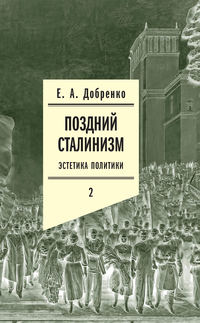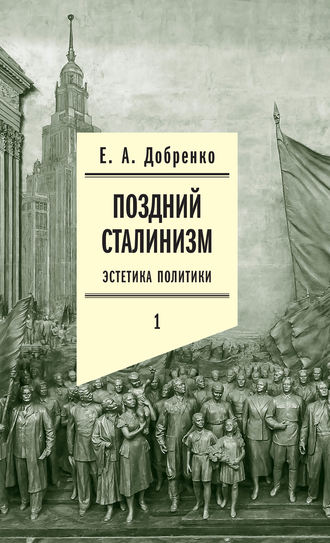
Полная версия
Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1
В позднем сталинизме (и в этом он нисколько не уникален) мы имеем дело с политикой, играющей по законам эстетики. В раннем сталинизме эта эстетика не была еще соцреалистической. Это была революционно-авангардная эстетика бури и натиска. В высоком и позднем сталинизме единственно возможной эстетикой оставался соцреализм. Однако ни во второй половине 1930‐х годов, ни тем более в годы войны он не мог стать полноценной матрицей для политики, поскольку ко второй половине 1930‐х не успел еще окончательно сложиться, а во время войны был оттеснен насущными военно-мобилизационными задачами. Только после войны политика начинает играть по правилам соцреалистической эстетики. Эта политика потому оставалась столь успешной, что была, по сути, художественной.
В соцреализме, который понимается здесь как эстетическая практика сталинизма, я склонен усматривать советскую версию универсального, а отнюдь не исключительно российского, феномена. Сталинский режим представлял собой одну из фаз всемирно-исторического процесса – он возник в силу специфической констелляции тенденций развития, порожденных универсальной демократизацией в ХX веке, столкновением патриархального мира с эпохой Нового времени. Конфликт, давший импульс синтезу этих двух начал в тоталитаризме ХX века, породил условия для рождения культуры массовых обществ и последующего выхода задержавшихся в докапиталистическом мире наций за пределы традиционного общественного уклада.
Впервые официальное определение соцреализма было дано, как известно, во вступительной речи Андрея Жданова на открытии Первого съезда советских писателей в 1934 году, где он сформулировал определение, почти дословно вошедшее в текст Устава СП СССР, принятого на Первом съезде СП:
Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. Причем правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма.
Лишь несколько слов из речи Жданова выпущены в этом определении: он говорил о «задаче идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма», а также указывал на то, что «революционный романтизм должен входить в литературное творчество как составная часть, ибо вся жизнь нашей партии, вся жизнь рабочего класса и его борьба заключаются в сочетании самой суровой, самой трезвой практической работы с величайшей героикой и грандиозными перспективами»[74].
Выделить ключевые принципы этой доктрины не составляет труда.
1. Преобразование действительности («переделка в духе социализма»).
2. Историзм («историческая конкретность»).
3. Идейность («идейная переделка»).
4. Партийность («воспитание в духе социализма»).
5. Народность («воспитание трудящихся людей»).
6. Революционный романтизм («изображение действительности в ее революционном развитии», «революционный романтизм должен входить в литературное творчество как составная часть»).
7. Реализм («самая суровая, самая трезвая практическая работа»).
8. Изображение жизни в формах самой жизни («конкретность художественного изображения действительности»).
9. Правдивость («правдивость художественного изображения»).
Перед читателем – не просто перечень основных параметров соцреализма, но и структура настоящей книги.
Главная отличительная функция соцреализма – преобразующая. Это искусство не изображать, но изменять мир. Здесь многое идет от авангарда: сталинская культура продолжила его жизнестроительный проект, понимая искусство не столько как создание индивидуальных произведений, сколько как формирование социальной среды, в которой живут люди. Однако роль авангарда переоценивать не следует. Функция эта заложена была в соцреализм всей предшествовавшей русской литературной традицией социального воспитания (частью которой были и сами революционные авангардные предшественники соцреализма с их идеями радикальной переделки мира), а также марксистским пониманием новых надстроек как изменяющих, а не только объясняющих мир, и, наконец, его основоположником Горьким, видевшим в культуре «вторую природу», а задачей искусства – создание «второй реальности». Эта преобразующая функция может быть описана как функция дереализации действительности. После войны она наиболее очевидным образом проявила себя в решении основной политико-идеологической задачи власти – переформатировании травматического Опыта Войны в героико-романтическую Историю Победы и замену Победой Революции в качестве фокальной точки советской истории и основания мифа творения нации. В этой перспективе Сталин не только переставал быть «верным учеником Ленина», но и «Лениным сегодня» – уходила в прошлое сама концепция «двух вождей», начинался новый отсчет времени. Опаленная революциями и Гражданской войной, разорением коллективизации и ускоренной урбанизацией, Большим террором и ужасами войны советская нация входила в состояние нормальности. Обратившись в первой главе к поэзии первого послевоенного года, к теме ленинградской блокады, к молодогвардейскому мифу, к проектам создания Пантеона жертв и к посвященным войне послевоенным фильмам, мы увидим, как этот процесс протекал в послевоенной культуре.
Отмеченная трансформация требовала изменения образа прошлого. Его переработка стала насущной задачей режима. В этом «полезном прошлом» должна была выплавиться новая основа легитимности и произойти окончательная формовка новой советской нации. Соцреалистический принцип историзма приобретает здесь решающее значение. Историзм – это образ прошлого, каким его хотела бы видеть власть. Хотя сталинизм отверг формулу главного марксистского историка Михаила Покровского: «История – это политика, опрокинутая в прошлое», исходил Сталин из того, что политика – это история, опрокинутая в настоящее. А поскольку политика была исключительной прерогативой вождя, то и содержание историзма определялось каждый раз Сталиным в соответствии с актуальными политическими задачами. Так было в 1930‐е годы и во время войны. Но после войны Сталину больше не требовались аллюзии и исторические метафоры. Пришло время изменения ключевых тропов. На смену аллегории пришла синекдоха, метафору сменила метонимия. Наступила эпоха метонимической замены. Если Иван Грозный был аллегорией вождя, то Сталин в картинах Чиаурели – это уже не аллегория, но метонимическая (замещающая) фигура. Во второй главе мы увидим, что именно с этой заменой была связана критика в 1946 году фильмов Эйзенштейна и Пудовкина об Иване Грозном и Нахимове; ею определялся статус нового главного режиссера страны – Чиаурели. Мы увидим, далее, на примере празднования 800-летия Москвы, как происходила трансформация визуального режима и исторического нарратива. И наконец, обратившись к архитектурной практике позднесталинской эпохи (главным образом к московским высотным зданиям), мы увидим, как произошел переход метонимии в метаморфозу.
Изменение исторического нарратива было частью более широкого процесса переформатирования режима репрезентации советской реальности. Как будет показано в третьей главе, оно составляло главную цель трех августовских 1946 года постановлений ЦК ВКП(б) о наиболее популярных и важных для власти искусствах – литературе, кино и театре, с которых принято начинать отсчет т. наз. «ждановской эпохи». Эти постановления объединяла тема современности. Одно говорило о неверном изображении послевоенного Донбасса во второй серии картины Лукова «Большая жизнь»; другое требовало положить конец засилью иностранных пьес и создать советские пьесы о современности; третье указывало на опасность как «отрыва от жизни» (у Ахматовой), так и слишком пристального (сатирического) к ней приближения (у Зощенко). «Коммунистическая идейность» призвана была заменить использовавшееся в XIX века понятие «тенденциозность». Это были не только цензурные постановления (внимание всегда обращалось на положенные на полку или отправленные на переработку фильмы, снятые с репертуара пьесы, изъятые из библиотек и с производства книги), но и акции, окончательно утвердившие «большой стиль» парадного сталинского искусства: пылающий ампир московских высоток, барочная помпезность послевоенных станций метро, сталинский стиль роскоши, пафосная популистская поэзия – все это стало прямым результатом постановлений 1946 года. Без них лакировочно-бесконфликтные литература и искусство не стали бы доминирующими. Эти постановления создали условия для производства пьес и спектаклей, романов и поэм, фильмов и картин, резко отличных от осужденных, что в куда большей мере определило развитие как советского искусства, так и советского политико-эстетического проекта в целом на годы вперед, чем то, что было ими цензурировано. Культурогенный потенциал постановлений, утвердивших в 1946 году «идейность», оказался огромным. От них взяло свое начало все послевоенное советское искусство, вершинами которого станут «бесконфликтные» пьесы, заполонившие советскую сцену, «Кубанские казаки» в кино, «Кавалер Золотой Звезды» в литературе, полотна Александра Лактионова и Дмитрия Налбандяна, циклопические монументы Николая Томского – самые известные образцы «лакировочного искусства». Именно в нем соцреализм достиг своей завершенной формы.
Соцреализму присуща открытая партийность. Это то, что осталось в нем от политического искусства, из которого он родился. Ее не следует путать с тенденциозностью («идейностью»). Партийность – это не содержательная позиция, но modus operandi, способность и готовность к изменению по заданному извне импульсу, принцип прямого политического действия. Чтобы быть партийной, позиция должна быть гибкой, поскольку партийная позиция всегда политическая. Сталинские решения и тексты вождя были абсолютно непрозрачны и порождали неопределенность, беспокойство, тревожное ожидание. Законы диалектики превратились в руках художника-вождя в законы триллера. В сталинизме не было иных правил, кроме партийности (читай: диалектики), которая в политике – лишь произвол и, соответственно, основа террора. Партийность была поэтому идеальным инструментом контроля. Диалектика составляет самую ее суть и потому наиболее полно проявляется в сфере идеологии и в особенности в сталинской философии, которая была продуктом идеологического аппарата. Партийность советской философии может быть понята как принцип связи между марксистской философской традицией и партийными институциями, в том же смысле, в каком партийность советского искусства была принципом связи между эстетической практикой и идеологическими институциями государства. Подобно тому как соцреализм был по форме эстетической практикой, а по функциям – идеологией, советская философия функционально также была именно идеологией. Иначе говоря, не идеология была продуктом «марксизма-ленинизма», а наоборот – сам «марксизм-ленинизм» стал продуктом мутации марксистской идеологии. Философия превратилась в идеологическую машину, которая не только непрестанно производила легитимирующий идеологический язык, но и обновляла его. Для того чтобы смена политически актуальных версий «марксистско-ленинского учения» происходила плавно и при всех поворотах легитимно, нужен был принцип партийности. Тема партийности стала центральной в развернувшейся на «философском фронте» борьбе и достигла апогея в 1947 году в ходе «философской дискуссии», рассмотрению которой посвящена четвертая глава.
Эффективность политико-идеологических трансформаций обеспечивается доступностью пропаганды. Если пропаганда, как определял ее Теодор Адорно, – это «рациональная манипуляция иррациональным»[75], то кратчайшим путем к нему является искусство как важнейший и самый эффективный ее инструмент. Народность – ключевая категория соцреализма – это образ народа, каким его хотела бы видеть власть. В этом смысле народность – это зеркало власти. Занимаясь конструированием образа «народа», она конструировала саму себя. Функция эта вытекала из самой природы режима: советская бюрократия не могла говорить о себе иначе, как в форме разговора обо всем социальном целом (народе, обществе, общих интересах), который был единственной доступной ему формой универсализации собственных интересов[76]. Инсценированная артикуляция мнения «народа» была для режима единственной формой репрезентации. Народность как ключевое свойство соцреализма получила новый импульс в 1948 году в ходе кампании по борьбе с формализмом в музыке. «Реалистическое направление в музыке», за которое ратовал Жданов, было в этом смысле реалистическим не столько стилистически, сколько функционально: речь идет о предельном прагматизме и реализме как об эстетической стратегии власти, артикулирующей интенции масс. Произведенная в результате эстетика (по аналогии с «Realpolitik») может быть названа Realästhetik. Отличало эту кампанию то, что, казалось бы, посвященная столь специфической теме, как народность музыки, она нашла свое отражение не только в самой музыке, но и в театре, кино, литературе. В пятой главе мы увидим, как происходила медиализация народности, которая из эстетической категории сама превратилась в предмет эстетизации.
Молодая советская нация, утверждая свою идентичность и возвращаясь к традиционалистской утопии, требовала романтической народности не только потому, что такое искусство «понятно народу». Романтизм изначально был составной частью соцреализма, провозгласившего своим объектом «жизнь в ее революционном развитии». Последний впитал в себя революционный романтизм (яркое направление в раннем советском искусстве), трансформировав его в то, что я назвал бы госромантизмом, окончательно сложившимся в позднесталинскую эпоху. В отличие от традиционного романтизма, утверждавшего конфликт мечты и реальности, трагизм, пессимизм, индивидуализм и гибель идеала, который всегда виделся в прошлом, последний утверждал торжество мечты, коллективизм, героику, исторический оптимизм и победу идеала, который всегда находился в будущем. Наиболее последовательно это проявилось в радикальной трактовке изменчивости и отрицании наследственности в советской биологии. Соцреализм материализовывал фантазмы и агрономические чудеса, производимые волшебной наукой народного академика Лысенко. Как эстетика режима, давно утратившего всякие связи со своими марксистскими просветительскими истоками, соцреализм оказался созвучным романтической реакции на просветительский рационализм. В отличие от романтизма, который противопоставлял просвещенческому культу разума культ природы, а просветительской идее прогресса – идею возвращения к корням, соцреалистический революционный романтизм соединял одно с другим, диалектически утверждая идею прогресса через Большой возврат. Рассмотрению этих аспектов политического романтизма посвящена шестая глава, сфокусированная на кампании 1948 года вокруг биологических теорий Трофима Лысенко, Ольги Лепешинской, Геворга Бошьяна и др., и главным образом на том, как эти теории раскрылись в научно-фантастических романах, пьесах, кинофильмах и научно-популярной литературе.
Подобные радикальные теории плодились в сталинское время не только в естественных, но и в гуманитарных дисциплинах. В лингвистике доминировала теория Николая Марра. Это был бунт романтико-революционного духа против позитивистской науки. Его конец наступил, когда Сталин, романтик-лысенковец в 1948 году, выступил реалистом-антимарровцем в 1950‐м. Смена роли не была ни оппортунистической, ни случайной. Сравнение двух крупнейших идеологических кампаний эпохи позднего сталинизма – в биологии (1948) и лингвистике (1950), – инициировал которые, а затем самое непосредственное и горячее участие в которых принимал Сталин, указывает на то, что реализм наравне с революционным романтизмом оставался главным балансирующим элементом политико-идеологической конструкции сталинизма, основанной на диалектических противовесах, необходимых для политической инструментализации идеологических кампаний в различных науках, целью которых были актуальные политические сигналы, посылаемые вождем «городу и миру». Выступив против марровского понимания «языковой революции» как некоего «взрыва», Сталин проявил ясное понимание логики исторического реализма: если в случае России в 1917 году «переход от старого качественного состояния к новому» и произошел при помощи «взрыва», то, во-первых, ни к чему хорошему это привести не могло (продуктом взрывов являются руины, а Сталин был реставратором); во-вторых, само это «новое качество» также весьма сомнительно – Россия оставалась страной, политическая культура которой вполне соответствовала советскому историческому опыту, что Сталин также прекрасно понимал; в-третьих, ни само патриархальное общество, ни его политические элиты (советская бюрократия) не были готовы к глубинной социальной модернизации (даже ограниченная, индустриальная модернизация была весьма поверхностной); и, наконец, в-четвертых, реальный «переход к новому качеству» возможен только на путях, говоря словами Сталина 1950 года, «постепенного и длительного накопления элементов нового качества ‹…› путем постепенного отмирания элементов старого качества», то есть эволюционно, а потому непременно (о чем свидетельствует и постсоветский опыт) – в пределах истории. Приход коммунизма откладывался. Споры о теории Марра как в начале 1930‐х, так и в начале 1950‐х годов вращались вокруг ее «марксизма». Провозглашенное настоящим его воплощением в языкознании на рубеже 1930‐х годов «новое учение о языке» было низвергнуто с марксистского пьедестала главным идеологическим судией. Политическому измерению дискуссии о языке посвящена седьмая глава.
Стилистическое оформление этого реализма воплотилось в принципе правдоподобия: соцреализму чужда условность – он опирается на «изображение жизни в формах самой жизни». Oпыт войны представлял субстанциальную угрозу для режима и подлежал трансформации и замене. Это был сложный и многоступенчатый процесс, на каждом этапе которого происходила модификация опыта через его вытеснение и замену. Отсутствие верификации должно было компенсироваться подчеркнутым правдоподобием. Опыт соприкосновения с Западом трансформировался в симуляцию комплекса неполноценности («низкопоклонство»), который имел целью выработку советского национального нарциссизма через конструирование комплекса превосходства (выражавшегося в «чувстве советской национальной гордости», борьбы за «приоритеты русской науки», «первородство русской культуры» и т. п.) и формирование иммунитета против любых форм политической нелояльности, таких как «безродный космополитизм», который являлся не более чем проекцией и фигурой отторжения и завершал процесс перерождения нарциссизма в паранойю и последнюю стадию переработки опыта встречи с Западом – его алиенацию. Главное, что объединяло эти стадии, – принцип фабрикации: «низкопоклонство» и «космополитизм» явились симптомами не столько социальной, сколько сталинской травмы, и потому были сфальсифицированы при помощи культуры ресентимента. Перенос этой ложной симптоматики на все общество требовал глубокой деформации как актуальных политических событий, так и истории. Соцреалистическое «изображение жизни в формах самой жизни» оказывается адекватным стилистическим оформлением этой стратегии, по-разному реализуемой в разных жанрах. И если результат этих репрезентационных усилий выглядел неправдоподобно, то вовсе не потому, что здесь использовались какие-то элементы фантазии или формы условности, но потому что сталинизм основывался на теориях заговора, всякое отражение реальности в которых было заведомо искаженным безо всякой фантастики. Оно было вполне фантастическим, как фантастичен мир конспирологической паранойи, которым пронизан сталинизм. Лежащий в ее основе страх перед несуществующим заговором требовал подтверждения, находя его в рационализации и драматизации, в которых теория заговора как будто материализовывалась. Производимая в результате параллельная реальность представлялась искаженной, сдвинутой, искривленной. Ее «правдивое изображение» в формах «самой жизни» лишь усугубляло и эксплицировало эти деформации. Погруженный в конспирологические теории Сталин был одновременно манипулятором и жертвой собственных манипуляций. В рассматриваемых здесь случаях речь идет об использовании теории заговора как своего рода ширмы для реального заговора, начиная с «американского шпионажа» за советскими открытиями в самый разгар широчайших советских шпионских операций на Западе (1946–1948) и заканчивая сфабрикованным «делом врачей» – организованным Сталиным заговором, основанным на обвинениях в заговоре самих врачей (1953). Восьмая глава посвящена анализу того, как перерабатывался массовый и индивидуальный опыт, структурировался взгляд на мир в послевоенном советском искусстве (в патриотических пьесах, биографических фильмах, антисемитских памфлетах и др. жанрах) в тот самый период, когда шла окончательная настройка сложившейся после войны советской нации с ее комплексами и травмами, беспокойствами и фобиями, иллюзиями и представлениями о собственном величии и мессианстве.
И все же полностью дереализовать действительность сталинское искусство не могло. Реальность находила выход, парадоксальным образом, в советском искусстве холодной войны. Как в настоящем оксюморонном сцеплении, сверхдержавы потому и пребывали в состоянии холодной войны, что не хотели войны и одновременно работали на нее, «боролись за мир» – воюя. Это была воображаемая война par excellence. Уникальность холодной войны в ее оксюморонности: если традиционная война есть система действий, направленных на насильственный слом status quo (даже если одна из сторон борется за его сохранение, другая (или другие) борются за его изменение), то холодная война была войной, в которой обе стороны боролись за одно и то же – за сохранение status quo. Иначе говоря, целью холодной войны являлось сохранение мира. Но если целью войны является сохранение status quo, то «борьба за мир» является, по сути, формой пропаганды войны. Произведенное холодной войной искусство, будучи продуктом военной пропаганды, было заведомо лживо в одном отношении, и столь же поразительно правдиво в ином. Лживое на информационном уровне, оно было правдиво в том, что отражало лучше, чем что-либо: советские травмы, комплексы и фобии, реальные политические устремления режима и переработку им идеологических установок. Подобно тому как советское искусство было отражением и экстраполяцией идеологических фантазий на советскую повседневность, культура холодной войны была проекцией и вытеснением собственного образа в образ враждебного Запада. В этом смысле советское искусство было всецело правдиво. В нем мы имеем дело с соцреалистическим мимесисом. Обратившись в девятой главе к сталинским текстам внешнеполитического содержания и советской международной публицистике, поэзии и театру, кино и музыке, мы увидим, что, подобно тому как советское «лакировочное искусство» было отражением идеологических фантазий советской повседневности, позднесталинская культура холодной войны отражала Другого, который являлся, по сути, наиболее адекватным образом себя самого. И в этом смысле позднесталинская культура была всецело миметической. Этот непрекращающийся процесс моделирования себя через образ Другого позволял перерабатывать травматику холодной войны в анестезирующую культуру ресентимента через «материализацию» (вербальную, визуальную, музыкальную и т. д.) фантазий высокомерного величия и великодушного миролюбия.
Таким образом, придерживаясь хронологии, мы стремились опереть политические константы позднесталинской эпохи на категории соцреалистической эстетики, позволяющие создать концептуальную раму, в которой разрозненные исторические события, кажущиеся противоречивыми и разнонаправленными, находят свою логику и объяснение, приобретают взаимосвязь и внутренний смысл. Иначе говоря, превращаются в историю.
Эта книга – попытка создания такого историко-критического нарратива, который позволял бы хронологически проследить основные события культурной и интеллектуальной жизни позднего сталинизма в их связи с политической историей сквозь призму основных принципов эстетики соцреализма. Такое рассмотрение вскрывает пронизанность политической истории сталинизма эстетикой и специфику эстетизированной политики не на уровне поверхностных манифестаций (парады, театрализация, визуальные практики и т. п.), но на уровне смены модусов, тропов и фигур. Политика, идеология и искусство были здесь связаны в уникальном сплаве и в этой констелляции должны быть поняты. Подобный сплав (для эпохи нэпа и раннего сталинизма) Катерина Кларк описывала как «экосистему революции»[77]. Своей экосистемой обладала каждая эпоха.