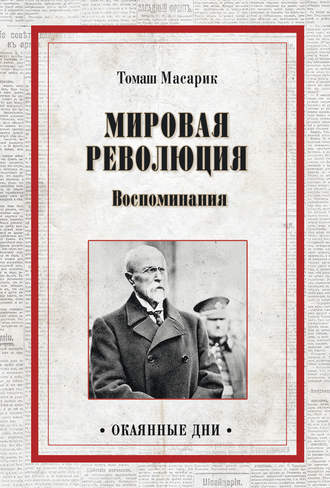
Полная версия
Мировая революция. Воспоминания
Пребывание в Париже и Лондоне, постоянное общение с англичанами и французами, наблюдения над французскими и английскими солдатами, франко-английскими соглашениями и разногласиями, размышления над французской и английской литературой вели меня естественным путем к сравнению французской и английской культуры.
Из английских философов привлекал меня больше всех Юм – он формулировал наиболее ноэтически и сильно великую проблему современного скептицизма; сравнение с Контом напрашивалось тем, что Конт исходит из Юма (как и Кант). Но какая разница между обоими: француз возвращается к фетишизму и ищет спасения в старо-новой религии, англичанин (шотландец!) спасается от собственного скептицизма благодаря этике гуманности (не религией гуманности, как Конт!). Католик – протестант!
Из новых философов мне был симпатичен Джон Стюарт Милль (до известной степени тоже контианец) как представитель английского эмпиризма; мимоходом вспоминаю и Бокля, на нем я уяснял себе основу истории. Дарвин был для меня великой проблемой – я отвергал и по днесь отвергаю дарвинизм, но ни в коем случае не эволюционизм; Спенсер очень интересовал меня – именно как философ эволюционизма и как социолог.
Говоря по совести, больше, чем английской философией, я занимался английской и американской литературой. Скоро я знал ее довольно хорошо; тогда начал я сравнивать, как уже говорил ранее, англичан и французов с точки зрения романтического декаданса. Уже ранее я разбирал Россетти и Уайльда, теперь в Лондоне я углублял свои познания в области кельтского возрождения и при этом проверял свой анализ французского романтического сексуализма; из новейших писателей подходящим предметом для моего изучения казался мне В.Л. Жорж, а также более старый Ж. Мур. Теперь, после войны, в Джойсе я вижу поучительнейший пример этого католическо-романтического декаданса – переход от метафизического и религиозного трансцендентализма и аскетизма к натуралистической и половой вещности становится у Джойса совершенно ясным.
Этого упадочного элемента, который так силен у французских писателей, у англичан нет; однако он имеется не только у французов! Он заметен в итальянской и испанской литературе, а в немецко-австрийской он даже силен. Есть он у поляков, есть и у нас. Английские историки литературы тоже удивлены этой особенностью; одни из них говорят весьма поверхностно об английской лживости и ханжестве, другие же попросту не могут найти объяснения для этого неопровержимого отличия. Англия и Франция – вот разница между протестантизмом и католичеством, между более человеческой, естественной и религиозно-трансцендентальной моралью. Поэтому в Англии и в английской литературе нет того кризиса, который виден во Франции и во французской литературе; нет и дуализма и вечной борьбы между телом и душой. Такой писатель, как Лоуренс, является исключением, а кроме того, его упадочность скорее вычитана у Фрейда. Зато ирландцы, католики, идут в ногу с Францией. Я считаю английскую литературу более здоровой, несмотря на то что вместе с Теном ставлю вопрос: Мюссе или Тениссон? Я отвечаю: и Мюссе и Тениссон – Франция и Англия с Америкой, но каждая из них пусть будет принята критически!
Давая это объяснение упадочного эротизма, я задал себе вопрос, правы ли те, которые видят его корни в темпераменте и расе – это определенно неверное объяснение, поверхностное наблюдение народов.
Вскоре после моего возвращения из Парижа праздновалась столетняя годовщина Шарлотты Бронте, моей любимой писательницы: вот тоже романтика, но совершенно иная, чем у французов, чистая и в то же время сильная любовь, но ни в коем случае не столь материальная. Я снова перечитал Бронте, а вместе с ней и Элизабет Броунинг. Только в Лондоне я понял, что у англичан, в сравнении с другими народами, очень много значительных писательниц; я еще ранее знал Гемфри Уорд, Мэй Синклер (также некоторые романы Корелли, наивности «Уйды» и некоторых других писательниц, вышедших в издательстве Таухниц), теперь я нашел их целую плеяду: Ривс, Етел, Сиджвик, Кэй-Смидт, Ричардсон, Делейфильд, Дэн, Вольф. И это еще не все. В английской литературе, начиная от Жаны Остин и через Шарлотту (и Эмилию!) Бронте к Жорж Эллиот и Элизабет Броунинг удивительно много значительных писательниц; в сравнении с мужчинами, писателями в иных землях их здесь гораздо больше (даже чем в Америке?).
И в этом можно усмотреть признак проникновения женщины в общественную жизнь; жена освобождается от гарема-кухни; во время войны в Лондоне, как и в иных государствах, можно было наблюдать, как женщины захватывают места, ранее исключительно принадлежавшие мужчинам. После войны, когда вернулись мужчины, многое изменилось, но женщина приобрела права, а с ними и обязанности. Судя по газетам и по частным сведениям, большое количество самоубийств падало на женщин; теперь это подтверждает и статистика, причем указывается на перегруженность и непривычку женщин к работе, на влияние одиночества и заброшенности и т. д.
В Лондоне мои сведения по истории литературы и критике я дополнял чтением самих писателей; у нас и в лучших библиотеках были все же пробелы. С. Ботлер и его юмор меня не захватили; Т. Гарди я знал лишь по сенсационным романам, теперь я его прочел целиком, так же как и Мередит (последнего я полюбил более, чем прежде); из области новейшей литературы я пополнил свои познания чтением Гисинга, Голсуорси, Уоль-поля, А. Беннета и Конрада; Уэльса я знал и прежде. От этих я добрался к одному из самых молодых – Свинертону; привлекли мое внимание также Хетчинсон, Лоуренс и другие.
Я считаю английскую культуру наиболее развитой, а в связи с тем, что я мог наблюдать во время войны, и наиболее гуманной; этим, однако, я не хочу сказать, что англичане сущие ангелы. Англосаксонская культура, это касается также и Америки, наиболее точно и внимательно формулировала в теории гуманитарные идеалы, на практике она их осуществляла в большей мере, чем другие народы.
Это было видно по взглядам на войну и по способу ведения войны. Об английском солдате в армии заботятся лучше, чем в других армиях, с ним и обращаются лучше; особенно хороши военное здравоохранение и санитарная служба; также довольно либерально принимались доводы против войны религиозных и моральных ее противников («conscientious objectors»). Англичане давали точные сведения о войне и не преследовали за враждебные мнения и т. д.
В какой мере все это находится в зависимости от богатства Англии? Ни один город в Европе не производит такого впечатления богатства, как Лондон; я проехал и прошел пешком весь Лондон во всех направлениях – почти всюду у домов приличные дверные ручки, много блестящей бронзы (разные дощечки с фамилиями, надписями и т. д.); заборы у садов всюду в порядке – в этом я видел богатство Англии гораздо нагляднее, чем во всевозможных статистических таблицах.
Приняв кафедру в Лондонском университете, я должен был отдавать свое время не только делу пропаганды, но и лекциям. Тогда я это считал весьма неприятной помехой, но теперь вижу, что Сетон-Ватсон и мистер Борроуз поступили правильно, усиленно рекомендовавши мне это профессорское место.
Когда я в достаточной степени ориентировался в Лондоне, то я начал делать визиты официальным лицам. Одним из первых, кого я стал разыскивать, был теперешний английский посол у нас Сер Джорж Россель Клэрк в Министерстве иностранных дел. В скором времени я также посетил бывшего посла в Вене сэра Мориса де-Бонсена, а после него ряд секретарей и других чиновников Министерства иностранных дел, равно как и государственных деятелей. Между прочими вспоминаю мистера Кэрра, секретаря Ллойд Джорджа, а вместе с ним кружок, образовавшийся вокруг серьезного журнала «Round Table», с некоторыми из них я потом познакомился лично. Этот журнал печатал весьма серьезные и научные статьи о нас и вообще о европейских проблемах. Из депутатов назову мистера Уайта, друга Сетон-Ватсона, вскоре сделавшегося усердным сотрудником «The New Europe», сэра Самуэля Гора и др.
Я продолжал, кроме того, расширять свои газетные знакомства; этому помогли в высшей степени как раз м-р Стид и мадам Роз: я не только познакомился лично с выдающимися журналистами и владельцами газет (назову лишь Нортклифа, м-ра Гэрвина из «Observer», д-ра Диллона, м-ра Г. Вильямса), но мог и лично сотрудничать в газетах при помощи статей и интервью. Я встречался не только с английскими, но и с французскими, американскими и многими другими журналистами.
Время от времени я старался встретиться с выдающимися людьми в различных областях. Припоминаю, например, свой визит к сэру Е. Винсенту Эвансу, известному знатоку критской культуры, но одновременно и знатоку Балкан, особенно юго-славянских. Приятно мне также вспомнить и профессора Виноградова. Я имел случай также несколько раз видеться с лордом Брайсом; его труд о средневековой империи и книга об Америке дали возможность поговорить о Германии и ее военных планах. У Брайса я встретился с Морлеем, и его книга о Гладстоне привела нас сейчас же к спору об Австрии (известное замечание Гладстона об Австрии). Тотчас же по приезде в Лондон я посетил м-ра Мориса, известного автора чешской истории; у него я познакомился с кругом писателей интересного оттенка, все больше пацифистов. Припоминаю еще историка проф. Голанд-Роза, проф. Бернарда Пэрса и других; с историком м-ром О. Броунингом я был в литературных сношениях. Особо отмечаю молодого и старательного Р.Ф. Юнга.
Приятное воспоминание из числа политиков оставил у меня Нестор английского социализма Гайндман; он пользовался всеобщим уважением за глубокое знание не только социалстического движения, но и всего европейского вопроса. Госпожа Гайндман, в свою очередь, интересовалась Украиной.
Я должен также вспомнить проф. Саролеа, родом из Бельгии, бельгийского консула в Эдинбурге. Я знал его давно, как лично, так и по его значительной литературной деятельности. Перед войной он написал труд, в котором доказывал, что Германия скоро спровоцирует войну. Он издавал прекрасный, популярный еженедельный журнал «Everyman», в котором отвел нам много места для нашей пропаганды.
Встречался я также с Бакстоном, другом болгар; я вообще не избегал лиц иного и даже враждебного направления.
На одной лекции я познакомился с госпожой Грин, вдовой известного историка; она активно выступала в ирландском движении. Как раз в это время завершилась судьба несчастного ирландца Кэзмента.
Я хочу в связи с этим указать, как наши противники следили за мной и пользовались каждым случаем, чтобы истолковать его против нас. В некоторых газетах, выходивших в Ирландии, внезапно появилось сообщение, что я приеду туда, дабы иметь возможность принять участие в ирландском движении. Но австрийские или немецкие агенты так пересолили в своих заметках, что не нужно было и опровержений.
В Лондоне застрял доцент нашего университета д-р Баудыш, изучавший ирландский язык и вообще все кельтские наречия в Британии. Заботясь о его интересах, я говорил с госпожей Грин об издании его работ. Кроме того, я в течение дальнейшего времени познакомился с другими ирландцами, которые были на казенной службе или по делам в Лондоне; например, с мистером Фитцморисом, знатоком Турции и Балкан. Если бы у меня было время, то я бы охотно поездил по Ирландии; ирландское движение я энал по литературе (изящной) и политике; у нас были старые симпатии к ирландцам. Меня занимал главным образом вопрос: до какой стапени и как проявляется ирландский характер у современных ирландцев, уже по-ирландски не говорящих? Английские писатели очень часто указывают в своих характеристиках на кельтский элемент расы и крови. Живет ли народ (я употребляю известное выражение), когда уже умер язык? Эту проблему, как я помню, однажды весьма остро, для себя и для ирландцев вообще, поставил Джордж Мур.
Упомяну еще о госпоже и девицах Панкхёрст, с которыми я познакомился. Оне проявляли интерес к нашему движению и поддерживали нас в своих кругах.
Я посещал довольно регулярно интересные лекции и собрания, например, м-ра и м-с Сидней Вебб, с которыми совместно выступал также Бернард Шоу. Шоу, само собой разумеется, уже ранее занимал меня с литературной точки зрения: теперь я познакомился с ним как с политиком и пропагандистом (пацифистом). На таких же собраниях я познакомился с Честертоном и его братом (антисемитом). Я также пошел посмотреть на владельца «Johna Bull», национального крикуна и сверхпатриота Горация Ботомли; у этого господина уже перед войной были какие-то темные денежные истории, из-за которых он должен был отказаться от депутатского звания; во время войны он стал глашатаем Джона Булля и достиг благодаря своему влиянию даже пересмотра своего старого процесса. Он был бесспорно талантливым человеком, типичным эксплуататором патриотического чувства во время войны; он добился даже того, что английский генералиссимус официально пригласил его в свой штаб (patriotism is the last refuge of a scoundrel – говорил еще Джонсон).
Уровень собраний, особенно дебатов, был довольно высокий; все спокойно выслушивали и опровергали доказательства противников.
Наша пропаганда шла успешно: уже упомянутое бюро и витрина действовали очень хорошо. Мы пользовались историей чешско-английских отношений начиная с брака нашей Анны с Ричардом II (1362); потом шел Виклиф и его отношение к Гусу и нашей реформации; особенно же мы указывали на Коменского и его интерес к английским школам, так же как и на американских и английских потомков чешских Братьев и на Голара. Не забыли мы герб и девиз принцев Уэльских, ведущих свое существование от короля Яна и битву у Креси. Все это превосходно действовало, особенно же то, что у нас имеются общие культурные связи.
Хочу еще вспомнить об одном инциденте. В Лондоне вышла книга графини Занарди-Ланди: графиня утверждала, что она и есть дочка императрицы Елизаветы и несчастного баварского короля (на последнее лишь намекает). Книга произвела (конечно, больше всего в так называемом обществе) сильное впечатление, полиция заинтересовалась писательницей; нашелся брат писательницы, который утверждал, что его сестра занимается мистификациями и шантажом. Я был приглашен к президенту полиции, очевидно как лицо, хорошо знающее Вену, а потому могущее высказать свое мнение; был у него и вышеупомянутый брат, приводивший доказательства своих утверждений. За графиню (замужем за графом Занарди-Ланди) больше всего говорила ее фотография, приложенная в начале книги и представляющая ее и ее двух дочерей – у всех трех в лице был прямо бросающийся в глава аристократизм. Я знал книгу, но не мог ничего решить, несмотря на то что у меня были различные сомнения. Случайно графиня жила рядом с моим домом – я мог наблюдать за ней несколько раз на прогулке, не будучи ею видим, и пришел к убеждению, что прав был брат. Сходство с ним, а также какой-то еврейский элемент во всем поведении дамы были разительны.
Если я еще упомяну, что посещал различные церкви (между прочим, меня с давних пор занимало ритуалистическое движение), слушал проповеди и наблюдал людей при исполнении обрядов (вопрос: как действовала война?), то этим полностью я исчерпаю свою деятельность в Лондоне.
Постоянной заботой для меня была Россия и ее судьбы; время от времени я искал встречи с русским послом Бенкендорфом. В Лондоне также жил правительственный журналист Веселицкий, известный под именем Аргуи; познакомился я также с эмигрантом Дионео и Кропоткиным (профессора Виноградова я уже упоминал выше). Из России приехал (в апреле 1916 г.) Милюков и члены Думы с Протопоповым; мы договорились с Милюковым об антиавстрийской программе, в этом же направлении он вел переговоры с Бенешем в Париже, а потом и сделал свое заявление. Позднее он приехал читать лекции в Оксфорд, и здесь у нас снова был случай заняться подробным разбором политики и войны. Наконец, упомяну об Амфитеатрове, который ехал из Италии через Лондон в Петроград (конец ноября 1916 г.); он должен был начать издавать протопоповскую газету и сам себя уверил, что сможет вести ее в либерально-радикальном духе. На всякий случай я дал ему статью, в которой разъяснял русским необходимость уничтожения Австрии. Это нужно было объяснять в России, так же как и на Западе, потому что у многих русских все еще существовала смутная идея малой или меньшей Австрии, в которой мы бы могли играть главенствующую роль. Сазонову через белградского проф. Велича я послал письмо, в котором рекомендовал депутата Дюриха.
Об условиях жизни чехов в России я был осведомлен письмами из России, своими особыми курьерами и целым рядом русских и наших людей, приезжавших в Лондон. Одним из первых был доктор Пучалка; он работал также в пользу наших солдат в Сербии. Приехал также редактор Павлу; теперь у него был удобный случай своими глазами посмотреть на быт в Англии и Франции и убедиться в отношениях Запада и России. Упомяну еще Реймана, Ванька и проф. Писецкого. Я представлял себе довольно ясно условия жизни в России, в нашей колонии, и ее вождей.
В Лондон приехал также в 1916 г. Дмовский; мы во многом соглашались с ним. Oн понял, что существование Австрии будет и для поляков постоянной опасностью. О силезском вопросе тогда еще много не говорили, да, кроме того, в отношении к нашим общим целям это был весьма второстепенный вопрос; я вел с ним позднее по этому поводу переговоры в Вашингтоне.
Югославии в Лондоне было много; они сделали из Лондона главный политический центр, особенно хорваты и словинцы: Супило, Гинкович, Вошняк, Поточняк, Местрович и др. Я уже упоминал, что в Лондоне был организован заграничный Югославянский комитет. Из сербов приехал как посол в Лондон Иованович, знакомый мне по Вене; перед ним в посольстве был мой хороший знакомый Антониевич. Из лондонских сербов нужно еще упомянуть писателей, профессоров: Савича и Поповича, а также отца Велимировича с его умелой церковнополитической пропагандой. В апреле (1916) приехал наследный принц с Пашичем; с обоими у меня были дружеские разговоры и договоры.
Отношение Италии – Лондонский договор – было все время жгучей темой для Югославии и для меня. Этот вопрос стал потому таким неотложным, что итальянцы и в Лондоне не ленились и договор защищали. Мое мнение было таково, что при окончательных переговорах о мире Италия уступит; Италия, конечно, не могла принять участие в войне без вознаграждения, и весь вопрос заключался в том, нужно ли для нас всех и для победы союзников участие Италии? Что будет, если выиграют Австрия и немцы? В таком случае положение югославян на долгое время ухудшилось бы. Друзья югославян, за малым исключением, весьма резко восстали против Италии; в тактическом отношении было полезнее, чтобы по крайней мере часть была более мирной и поддерживала сношения с итальянцами. Официальная Сербия держалась спокойно, но это подавало опять хорватам и словинцам повод к недоверию, а часто и жалобам на официальную Сербию, что она, как и Россия, изменяет югославянским и славянским интересам вообще.
Лондонский договор имел еще значение и потому, что благодаря ему по желанию Италии римская курия была исключена из мирной конференции; в этом отношении ни хорваты, ни словинцы не разделяли наших чувств.
Вопрос об отношении к Италии при ее вступлении в войну приобрел для нас большее значение еще и потому, что у нас в Италии, воюющей с Австрией, скоро оказалось значительное количество пленных; в Италии мы могли, как и в России, организовать легионы из пленных. Связь с Италией поэтому представлялась для Национального совета весьма важной; как уже было сказано, Штефаник по обоюдному соглашению занялся Италией, также Бенеш ездил в Италию и был в постоянных сношениях с итальянским послом в Париже. Работая в полном согласии с югославянами, я постоянно принужден был сталкиваться с итало-славянским вопросом.
Наша колония выступала совместно с югославянами; например, в августе 1916 г. мы устроили совместный митинг против Австрии, на котором председательствовал виконт Темпльтоун и выступал Сетон-Ватсон и др.
Споры об Италии, как я мог наблюдать, поддерживали старые разногласия сербов и хорватов; появились затем и личные несогласия; споры приобретали уже такой характер, что начинали вредить доброму имени югославян.
У югославян были горячие защитники в лице Сетон-Ватсона и Стида, оба в итальянском вопросе выступали за точку зрения Югославянского комитета. Сетон-Ватсон организовал англо-сербское общество взаимности, имевшее большое значение; по этому же образцу немного позднее было устроено и англо-чешское общество. В Париже организовался (весной 1917 г.) Черногорский комитет, имевший антиправительственное (антикоролевское) направление; в марте он издал свою программу национального единения.
Я бывал часто с Супилой, помогавшим мне некогда против Эренталя; вообще, мои прежние выступления за югославян (за Боснию и Герцеговину в 1891–1893 гг.; процесс загребский и Фридъюнга; борьба с Эренталем и процесс в Белграде) давали мне особое положение среди всех югославян. Супило был в России уже в 1916 г. и вернулся оттуда в весьма повышенном настроении из-за того, что Россия согласилась с Лондонским договором; подробнее об этом расскажу в главе о России, сейчас я вспоминаю лишь наши лондонские встречи. Наши отношения начались в Женеве. Очень скоро Супило разошелся не только с русскими и сербами, но и с Югославянским комитетом; много труда стоило мне примирение – за день до моего отъезда в Россию он обещал мне, что помирится. Я не предчувствовал, что мы тогда виделись в последний раз; свое обещание он сдержал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Вот счет того, что я получил из Америки на наше дело:
1914–1915 37 871 долл.
1916–1917 71 185
1917 (до конца апр.) – 82 391
1918 (до мая)…. – 483 438
674 885 долл.




