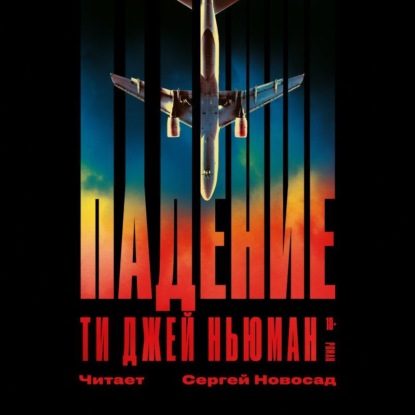Полная версия
Муравечество
Я смотрю на Инго, но он, кажется, отвлекся. Он пересчитывает таблетки. (Его таблетница размером с настенный календарь, в то же время она и есть календарь. Висит на стене.) Он вообще меня слушал? Я вспоминаю своих неблагодарных студентов в школе смотрителей зоопарков. Не то чтобы во время моих лекций они пересчитывали таблетки (ведь они молоды и крепки), но они переписываются и читают всякие сплетни в своих компьютерах, часто выходят из аудитории и часто вообще не появляются. Я не приверженец строгой дисциплины. Отнюдь нет. Я верю в то, что, когда ученик не пишет СМС, приходит учитель – вернее, оказывается, что он все это время стоял у доски. Я не Сидни Пуатье из «Учителю, с любовью». Как и не Сэнди Деннис из «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Я не в расцвете, как мисс Джин Броди из «Расцвета мисс Джин Броди». И я не мистер Чип или кто там еще из тех семи фильмов, где Робин Уильямс играл вдохновляющих учителей («Учитель, мне нужна помощь!», «Учитель года II», «Слишком заботливый учитель», «Профессор Сальвадор Сапперштейн и несчастные студенты школы Солсбери», «Учитель, мне опять нужна помощь!», «Я твой учитель, и я тебя люблю» и «Общество мертвых поэтов»). Я кладезь мудрости, если угодно. Я источник. Я здесь, если я нужен. А пока буду учить так, словно никто не слушает. Буду писать так, словно никто не читает. Буду любить так, словно весь мир вымер.
Инго закончил перебирать таблетки. Смотрит на меня.
– О, привет. Так что, хочешь посмотреть мой фильм целиком?
– Да, да, тысячу раз да! Ну, то есть семь. Только семь. Почему именно семь, я уже объяснил выше, ну и еще фильм очень длинный.
– Значит, вот как мы сделаем, – говорит он. – Фильм идет три месяца, включая заранее определенные перерывы на походы в туалет, еду и сон. Идея в том, чтобы благодаря напору фильм проник в твое сознание и населил твои сны. Это своего рода киноэксперимент, устанавливающий между художником и зрителем равные отношения, благодаря чему зритель, посмотрев фильм целиком, утратит понимание того, где кончается реальность фильма и начинаются его собственные сны. Или ее.
– Или тона.
– Безусловно, у меня есть намерение подтолкнуть твои сны в определенном направлении, но в итоге то, что ты сам привнесешь в фильм, во многом будет зависеть от твоего сознания.
– Типа как брейнио.
– Что?
– Типа как брейнио, – повторяю я.
– Первый перерыв на туалет будет через пять часов, – говорит он, не обращая на меня внимания. – Пользуйся своим. Мой закрыт для всех, кроме меня, и только я могу им пользоваться и обязательно воспользуюсь.
– Вы снова говорите очень похоже на меня.
– В свой туалет я тебя все равно не пущу, мистер.
– Справедливо. Но это правда. Или как Окки. Это жутковато звучит.
– Я не знаю, что такое «окки». Ты готов начать?
– Позвольте мне подготовиться, – говорю я.
– Ладно. Готовься.
– Ладно, я пытаюсь.
– Ладно.
Сделав быстрый вдох, активирую режим «безымянной обезьяны» – а после того, как я много лет изучал и практиковал некоторые околовосточные религии, это получается мгновенно.
– Поехали, – фырчу я по-обезьяньи.
Следующие семнадцать дней проходят в размытом, но гениальном лихорадочном сне, наполненном невообразимым кинематографическим величием, раменом, пропущенными звонками от афроамериканской девушки, «Настоящим тунцом Нилона», тревожными снами, перерывами на туалет, короткими и запутанными разговорами с Инго о растительном клее. Я плачу. Я смеюсь. Я ною. Я вздыхаю. Я потею. Я в радостном порыве бью кулаком по воздуху. Меня переносит в страну чуждых мне эмоций, в страну, которой я, возможно, избегал всю жизнь. Здесь есть всё.
На семнадцатый день, где-то между 15:05 и 15:08, Инго умирает. Когда фильм прерывается и никто не меняет бобину, я оборачиваюсь и вижу, как он повис на костылях, все еще стоя. Я оказываю первую помощь, хоть и не знаю, как ее обычно оказывают, но знаю, что надо давить и, кажется, давить надо на грудь. Не помогает. Я смотрю в его невидящие остекленевшие афроамериканские глаза и плачу.
Разбитый горем, я вспоминаю наш с Инго ночной разговор несколько дней назад, когда он подтыкал мне одеяло перед сном, – этот разговор возникает в голове, словно призрак.
– В мире есть множество незримых, – сказал он.
– Незримых?
– Тех, кого не узрели.
– И зря. Понимаю, – сказал я.
– В фильме.
– Они есть в фильме?
– В фильме они незримы.
– Значит, их нет в фильме?
– Они есть. Но их нет в кадре. Так и со многими из нас.
– Значит, это все же более-менее концептуальное замечание.
– Нет. Были еще куклы. Созданные с тем же тщанием, что и зримые. И их я тоже двигал, шаг за шагом, так же как и зримых. Они жили свои жизни. Но их не видела камера. Только я.
– Вы анимировали кукол, но не сняли их на пленку.
– Это вшестеро увеличило фронт работ. Иначе я закончил бы фильм за пятнадцать лет. Это необходимая жертва.
– Но почему?
– Потому что Незримые тоже живут. Потому что если я не увижу, как они живут, то кто тогда увидит?
– Но почему бы не заснять их и не сделать зримыми для мира?
– Потому что они незримы. А если бы кто-то узрел Незримых, они бы уже не были незримы.
– Может, вы делали хотя бы какие-то заметки на бумаге? Их имена? Имена их любимых? Их семьи?
– Только в мыслях. И с годами я забыл большинство деталей, большинство имен. Они слиплись в единую массу, в идею, в поеденный молью клок памяти. Когда я умру, со мной умрет и то, что от них осталось.
– Это звучит неправильно и ужасно печально, – сказал я.
– Таков наш мир.
– Вы покажете мне этих кукол?
– Нет.
– Расскажете о них?
– Только в виде переписи. Они известны только по статистике. Всего 1573 взрослых черных мужчины в возрасте за двадцать.
– Вы создали 1573 куклы черных мужчин в возрасте за двадцать.
– И анимировал.
– Это невероятный объем работы.
– Недостаточный. Даже близко недостаточный. Ее никогда не бывает достаточно. Но это все, что я сумел. Мое время ограничено. Еще 1612 черных женщин в возрасте за двадцать.
– Господи, – сказал я.
– 1309 черных мужчин в возрасте до двадцати; 1387 черных женщин в возрасте до двадцати. Среди них было восемь Юных Искательниц Приключений.
– Юных Искательниц Приключений?
– Они мне были особенно интересны, – сказал Инго.
– Кто?
– Юные Искательницы Приключений. Я был еще молод, когда они появились. Думал, они смогут выбиться. Предоставил все возможности. Сделал их воительницами. Сделал исключительными. Сделал так, что в мире Незримых они раскрывали преступления. Сделал сексуальными конокрадками. Я любил их. Благоволил им. Представлял, что я из их числа. Но я ошибался.
– Насчет чего ошибались?
– Даже при том что у меня был полный контроль над их судьбами, сам я также был Незрим. Незримый Бог Незримых девочек, и ничего тут не поделать. Они продолжали сражаться. И я их любил. Но в конце концов они, как и все, погрузились обратно в море невидимости, нашли неблагодарную работу, утратили внутреннюю искру, устроились в «Слэмми». Эмоциональный труд, так это теперь называют. Это неизбежно. Теперь я знаю.
– Могу я их увидеть?
– Нет. В живых остались лишь немногие. Они стары и несчастны. Даже если ты сам Незрим, смотреть на Незримых очень тяжело. Очень тяжело. Никто не хочет, чтобы ему напоминали. Гораздо лучше смотреть на Зримых. Незримые – это зрители Зримых. Они нужны, чтобы смотреть, а не чтобы смотрели на них.
Глава 11
У Инго Катберта нет родственников. Как выяснилось, он просил похоронить себя на кладбище Святого Глинглина, чуть южнее заповедника «Двенадцатимильное болото», за «Тэйсти Фриз» и перед «Фрости Фриз»[28]. Управдом вручает мне конверт с четырьмя сотнями долларов. Как ни странно, на конверте написано мое имя. Мне не совсем понятно, почему я организую похороны, но если по правде, то контроль над Инго, над его наследием и его имуществом – это именно то, что мне нужно. Так что, хотя четыреста долларов по одному мятому доллару даже приблизительно не покрывают расходы на гроб, надгробие, священника, похороны и поминки в «Тэйсти Фриз» (заметка: проверить, вдруг у «Фрости Фриз» условия получше), я с радостью оплачу разницу с помощью большого займа у сестры, которая замужем за богачом. Я знаю, в будущем к могиле Инго придут бесчисленные паломники. Я хочу убедиться, что место назначения удовлетворит этих еще не рожденных фанатов, которых наверняка будут тысячи, а то и миллионы, а то и больше. Нужна эпитафия. Что-то проникновенное. Что-то, что выразит культурную важность Катберта, но при этом неразрывно свяжет мое имя с его феноменом. Тут же на ум приходит эпитафия Поупа на могиле Ньютона: «Был этот мир глубокой мглой окутан. „Да будет свет!“ – И вот явился Ньютон[29]. С любовью, Поуп». Возможно, я смогу сочинить что-то подобное. «Пространство-время невидимо и необходимо; так и Катберт. С любовью, Б. Розенбергер Розенберг». Или: «Невоспетый воспел. С любовью, Б. Розенбергер Розенберг». Или: «Одинокий человек, растрогавший миллионы. С любовью, Б. Розенбергер Розенберг». Или «На 32 850-й день Катберт отдохнул. С любовью, Б. Розенбергер Розенберг». Или «Наш мир не создан для такого афроамериканца, как ты. С любовью, Б. Розенбергер Розенберг».
Я остановился на варианте с «невоспетым», но добавил «И потому сердце мира разбито. С любовью, Б. Розенбергер Розенберг». Нанял фотографа, чтобы задокументировать похороны. Знаю, что буду там один в компании с нанятым баптистским священником (Инго же наверняка был баптистом!), и в будущем это поможет – укрепит нашу с Инго связь в сознании общественности. Теперь я – Брод. Я Брод, вся моя дальнейшая жизнь просчитана наперед: душеприказчик, биограф, комментатор, доверенное лицо, контакт на экстренный случай. Друг. Я планирую похороны на день, когда ожидается проливной дождь: зонтики и грязь – это образы очень кинематографичные, похоронные, иллюстрируют глубокое горе, лишения и одиночество. Вдобавок мне не составит труда казаться убитым горем – и не только потому, что я действительно буду убит горем, хотя мне не всегда удается расплакаться даже несмотря на то, что я взял несколько уроков актерского мастерства для режиссеров, два урока актерского мастерства для критиков и один – для зрителей. Под дождем же мое лицо намокнет, и не придется беспокоиться о правдоподобии. На всякий случай я взял в аренду на местном складе кинооборудования дождевальную машину.
Вернувшись после похорон Инго и вкусного фраппе во «Фрости Фриз», я думаю о неизбежном путешествии Инго из Незримого в Зримое и обо всех Незримых, кого он пытался взять с собой. Я вынужден ослушаться Инго – совсем как Макс Брод ослушался Кафку – и перебрать его ящики, чтобы найти Незримых. Я считаю, что они – то негативное пространство, которое определяет позитивное пространство фильма Инго, и за все, что сделали, они заслуживают признания и славы. Возможно, нужно снять еще один фильм – с ними. Возможно, пришло их время. Ибо теперь мы живем в будущем. Возможно, этого желал бы сам Инго. Я могу снять этот фильм. Никто, даже кукла, не заслуживает жизни и смерти в безвестности, прожить жизнь в незримости. Я вспоминаю о небольшой ламинированной карточке, которую ношу в бумажнике для вдохновения: «Критика – это окна и люстры искусства: она развеивает обволакивающую тьму, в которой искусство могло бы оставаться лишь смутно различимым и, возможно, вообще незримым. Джордж Джин Нейтан». Как критик, я скрываюсь в темноте, незримый. Но я существую (я существую!), и мое время пришло. Я возьму всех несчастных с собой. Я буду изучать этот фильм ad infinitum, пока не пойму, кто такие эти Незримые, все до единого. В мире Инго я буду Говардом Зинном[30] – не то чтобы незримые афроамериканцы нуждались в еврейском историке, который сделает их зримыми. Но все равно я буду им. Хоть я и не еврей.
Возвращаясь с похорон, я думаю, что вид на могилу Инго должен быть более захватывающим. Чтобы паломники были довольны своим выбором паломничества, чтобы рейтинг на «Йелпе» привлек приличные толпы, у могилы должен быть и развлекательный аспект. В конце концов, это Америка. Не обманывай себя. Я представляю себе огромную горку – скажем, тридцать метров в высоту, если уж на то пошло. С одной ее стороны будет череда каменных плит с выгравированным лицом Инго на каждой, и на каждой выражение лица будет чуть-чуть отличаться. И пока фанат съезжает вниз, он (она, тон) смотрит на плиты, и благодаря магии гранитного кино лицо Инго меняет выражение. Возможно, Инго улыбается. Да, мне известно, что на месте упокоения Альфреда Хичкока уже есть подобная штука, но там он подмигивает. Теперь, когда стало известно, что Хичкок был склонен к сексуальному насилию, протестующие требуют убрать эту горку и заменить на горку, созданную женщинами в честь женщин. Дань уважения женщинам, чьи карьеры и жизни пострадали по вине этого чудовищного женоненавистника. (Возможно, подмигивающая Типпи Хедрен? Не мне, мужчине, решать.) И я говорю: самое время (хотя это тоже не мне решать). Разорвите Хичкока на части. Он был токсично-маскулинным. Не надо смягчать его жестокое наследие, снимая о нем фильмы, где его играет эльфийская прелесть Тоби Джонс. Отныне пусть Хичкока в бесконечных гастролях моноспектаклей играет Харви Вайнштейн, так же как Джеймс О’Нилл был осужден провести свои последние годы, играя графа Монте-Криско, чтобы искупить какой-то из своих грехов, связанный с кондитерским жиром[31]. Я делаю пару звонков – не насчет идеи с Вайнштейном (это, возможно, позже). Звоню резчику по камню, резчику по водяным горкам и в комиссию по районированию. Звоню сестре, чтобы попросить в долг кучу денег.
Блуждаю по квартире Инго, впервые чувствуя здесь странную свободу. Он за мной не смотрит. Никто не смотрит. Я копаюсь в ящиках. Это неправильно. Как если бы я заглядывал в закоулки разума очень замкнутого человека. И все же в нашем мире теперь я – голос Инго. Он умолк навсегда. Если мне предстоит выполнить необходимую работу по организации и освещению его сознания – необходимую, потому что сейчас, возможно, мир нуждается в Инго как никогда, – то я должен, по сути, стать Инго. Другого способа нет. Его ящики заполнены телами, сотнями, возможно, тысячами маленьких тел, возможно, миллионами тел, красиво изготовленных, с шарнирными скелетными системами, с податливыми лицами, одетыми в прекрасно скроенные крошечные костюмы – у Инго не бывает незначительных деталей: полицейские, банкиры, хирурги, матроны, солдаты, моряки, Мадд и Моллой в разных возрастах. Все здесь – все персонажи из фильма, все актеры второго плана, – и каждый отдельно, с любовью укутан в оберточную бумагу, как китайские белые груши в супермаркетах под Рождество (или Тоннуку). Здесь же я нахожу миниатюрные фонарные столбы, расфасованные по эрам автомобили, собак и кошек, крошечные газеты-обманки с леской внутри, чтобы изобразить, как они летят по улицам в ветреный день, деревья, у которых двигаются каждая ветка и листок, шарманщика, его мартышку, пожарные гидранты, их мартышек, телефонные столбы, пивные бутылки, столовые приборы, обувные коробки и сумки, городские автобусы и фуникулерные вагончики, железнодорожные рельсы, голубей, роботов, штыковую лопату, Ричарда Никсона, витражи, карусель из Центрального парка, атомные бомбы, газетные киоски, наперстки размером с песчинки, барменов, всех белых актеров из мюзикла «Гамильтон», парашютистов, платформу «Мэйсис» к параду на День благодарения. В ящиках есть практически всё в мире, что можно себе представить или увидеть своими глазами. В одном особенно большом лежит единственный персонаж: красивый молодой человек, лет, может быть, двадцати пяти, с точеными чертами, внешностью кинозвезды – Рока Хадсона или Троя Донахью. Это с отрывом самая большая кукла из всех, что я нашел. Раз в девять-десять больше всех остальных. Возможно, в фильме он играет роль великана? На данный момент я посмотрел где-то шестую часть фильма и этого персонажа пока не встретил. Осторожно заворачиваю его обратно и возвращаю в картонный гроб, сажусь, ошеломленный мастерством, заботой, любовью, с которыми Инго мастерил и защищал этих кукол, уважением, которое он им оказывал. Я рад, что организовал для Инго строительство мемориала. Я рад, что к нему наконец отнесутся с тем же уважением, какое он проявлял к своим «детям» (или, как он их иногда называл в зависимости от своей личности в этот день, к своим «детушкам»).
К моему удивлению, по щеке катится одинокая слеза. Я слизываю ее языком и ощущаю соль своей хрупкой человечности. Это напоминание, что все мы вышли из моря. Это напоминание, что в этом смысле все мы братья, все мы когда-то были рыбами-братьями (сестрами, тонами), а теперь мы – люди-братья. Или сестры. Или просто родственники, если говорить о небинарных и гендерно-нейтральных людях, о которых нужно помнить, что они тоже наши братья, или, точнее, как я уже сказал, родственники. Я обнаруживаю за софой еще один ящик, отдельно от остальных – кажется, спрятанный, посеревший от старости. Должно быть, важный. Мы всегда прячем самое ценное, страшась, что наши самые глубокие, самые личные мысли осквернит, отравит контакт с другими людьми, с миром. Я позабочусь о тайне Инго. Я буду беречь и защищать ее. Я, конечно же, поделюсь ею с миром, потому что это моя миссия, но я сделаю все, чтобы его тайна, что бы она собой ни представляла, не исказилась. Наконец-то Инго получит то, чего всегда, несомненно, жаждал, – понимание. Мы все жаждем понимания. Я могу лишь мечтать о том, чтобы у меня был такой же я, который после моей смерти защищал бы, лелеял меня и делился мною с миром, с радостью и состраданием – так же, как я буду делиться с миром Катбертом. Но, увы, в мире всего один я.
Я открываю спрятанный ящик. Он набит пожелтевшими от времени записными книжками. Джекпот. Собственные слова Инго. Я прочту их с величайшим вниманием и состраданием, затем переложу его слова в свои, чтобы их лучше поняли, и поделюсь с миром (с другими). Оригиналы, конечно же, попадут в архив, чтобы исследователи поколениями могли внимательно их изучать, но уверен, что, как и любой сложный текст, бессвязная ахинея непонятого гениального режиссера-саванта нуждается в интерпретации, чтобы дилетанты могли его оценить. Я беру записную книжку сверху, открываю на случайной странице и читаю вслух:
Мы скрыты. Не только негры, но и сумасшедшие, немощные, нищие, нечистые, преступные. Нас загоняют в трущобы, в тюрьмы, в лечебницы, в ночлежки. Мы скрыты от глаз, на виду остается лишь комедия белизны. Моя цель – заставить общество взглянуть в зеркало, но зеркало отражает лишь то, что можно увидеть. Моя камера – это зеркало, но это не значит, что Незримые перестают существовать. Они лишь скрыты от объективов. Поэтому я оживлю и Незримых, все жизни, что приходят и уходят незамеченными. Я изображу их, буду помнить, но не буду записывать на пленку. И так моя камера станет самым истинным из зеркал, мой фильм как ничто другое отразит мир. Всё как со слепыми детьми у меня на работе. Скрытые в лечебнице, они не видят, а мы, видящие, не можем видеть их неспособность видеть. Неприглядное зрелище. Они напоминают о нашей слабости. Если эти несчастные ходят среди нас, мы не можем свободно продолжать человеческую комедию, а продолжать играть совершенно необходимо. Следовательно, мы должны притворяться, чтобы развлекать.
Я закрываю записную книжку и долго сижу в молчании. Расшифровать эту бессвязную ахинею будет непросто. Но и не стоило ожидать, что такая задача будет легкой. В конце концов, Инго – художник-аутсайдер. Скорее всего, он страдает от тех же проблем с коммуникацией, что и все самоучки. Но теперь передо мной работа всей моей жизни. Инго! Я безумно благодарен, дорогой мой дурачок Инго, за то, что вы даровали мне эту непосильную задачу, и знаю, что, где бы вы ни были сейчас, вы так же благодарны мне.
А что с тем великаном? Время, несомненно, покажет.
Я обыскиваю квартиру, но не могу найти незримых кукол. Инго верен своей идее до конца. Возможно, он их выдумал? На самом деле вся эта затея кажется маловероятной. Но нет. Я горжусь тем, что изучаю человеческую природу, язык тела и даже в каком-то смысле современное искусство хореографии рук (я имел большое удовольствие брать интервью у обаятельной ирландки и артистки в области танцев/хореографии рук Сюзанны Клири для монографии «Руки как драматические инструменты: от кукольного театра теней до Брессона и обратно»), и для меня очевидно, что Инго говорил правду. Я продолжаю поиск, ищу скрытые панели, люки, фальшстены и фальшпотолки. Как и всегда, я подхожу к делу тщательно. Единственное, что из находок заслуживает внимания, – это пожелтевшая, нарисованная от руки карта территории, на которой возведено это здание. На ней есть место, отмеченное крестом. Быть может, вот оно? Карта необозначенного массового захоронения? Ну, что бы там ни было, нужно разведать.
Я добываю у торговца скобяными изделиями кирку и лопату и начинаю копать. День выдался жаркий и влажный. Я действующий фехтовальщик и заядлый мечник, и потому уровень моей физической подготовки почти беспрецедентен для людей моего возраста, но даже для меня это изнурительная работа. Тот факт, что я не получил и даже не пытался получить у управдома разрешение на раскопки, только нагнетает стресс, а это вредно для сердца. Но я продолжаю. Перекидка земли лопатой длится, по ощущениям, минут сорок пять – хотя на самом деле, наверное, где-то сорок четыре, – затем лопата бьется обо что-то твердое. Это черепной свод головы – крошечной головы. Золотая жила. Для деликатной работы достаю археологические инструменты – те, что всегда ношу с собой: лопатку, зубную щетку с мягкой щетиной и профессиональные инструменты стоматолога (серповидный зонд, пародонтологический зонд, ретрактор для губ) – и приступаю. За пять часов я выкопал, по приблизительным подсчетам, около тысячи кукол всех рас и этнических групп, всех возрастов, некоторые в одежде домашней прислуги, некоторые в одежде шахтеров, некоторые – в форме рабочих конвейера, солдат, разносчиков газет, проституток, фермеров и еще кого-то похожего на смотрителя зоопарков, но не уверен, потому что его форму частично поела плесень. И конца им пока не видно. Они больше не Незримые. Вскоре мы выйдем из тьмы, все вместе. Выйдем из темного театра. На свет. Нас узрят. Я поведу их, но не потому, что я белый спаситель, нет, не поэтому, а потому, что все они – неодушевлены, а я единственный одушевлен. Я звоню своей девушке, чтобы поделиться новостями. Меня снова перекидывает на голосовую почту. Я бью кулаком в стену и возвращаюсь к фильму, строго соблюдая предписанные Инго расписание и правила (хотя пользуюсь его туалетом, который совершенно отвратительный, зато рядом). К сожалению, теперь мне самому приходится менять бобины с пленкой. Я подумывал нанять для этого местного школьника (вроде шабес-гоя), но боюсь, как бы он не разболтал журналистам. Следующие два месяца и двадцать дней кумулятивно влияют на мою психику. Все границы между фильмом и мной растворяются. За время просмотра я стал бесконечно сильнее и в то же время бесконечно слабее. Как муравей кампонотус порабощается грибком O. unilateralis, так и я призван одержимо подчиниться фильму Инго. Я слабоволен, но неколебим и сделаю всё, чтобы фильм заслуженно распространяли, ценили и славили. Теперь это работа всей моей жизни; это абсолютно ясно. И хотя, как и в случае с муравьем, скорее всего, все закончится взрывом головы – метафорическим (будем надеяться!), – мне все равно. Мне все равно. Я сложил бобины с пленками в своей квартире. Забрал все, что осталось от миниатюр и кукол. Все это почти целиком занимает комнату, где я раньше занимался своими швейными проектами. Оглядывая помещение, не могу не думать о славе, которая меня наверняка ждет, о лекциях, о Нобелевке за критику, о Пулитцере за проницательность. Эти новые ощущения бодрят. Не буду врать; в этом есть что-то сексуальное. Я мастурбирую. Снова пробую дозвониться до своей девушки. Бью кулаком в стену.
Глава 12
Я решаю позвонить редактору с пляжа. Выбираю место, где много лет назад на берег выбросило Сент-Огастинское Чудовище; мне это кажется символичным, ведь фильм Инго – такой же чужеродный левиафан из глубин его сознания. Позвонить отсюда кажется просто необходимым. Я читаю мемориальную табличку в основании скульптуры Генри Мура, изготовленной по заказу Криптозоологического общества Северной Флориды.
На этом месте 30 ноября 1896 года было выброшено на берег неопознанное существо, названное Сент-Огастинским Чудовищем и позже Глобстером. С тех пор это создание без лица и глаз подстегивает воображение биологов, ихтиологов и криптозоологов. Что это за бесформенное создание, вонючая разлагающаяся масса, тучная, как будто бы состоящая из жира мерзость, породившая множество безумных теорий и нелепых предположений о ее происхождении и предназначении? Быть может, это не более чем сгусток сродни жирбергам, которыми, как утверждает современная наука, скоро будут забиты канализационные системы в наших больших городах? Отчего у существа такого размера нет ни мозга, ни мышц, ни скелета, ни рта, ни ануса? Наш интерес к этой массе желатина говорит больше о нас самих, чем о любых мифических морских чудовищах. Оказывается, мы странные, оторванные от реальности создания, увлеченные напрасными поисками смысла. Следует отметить, что, кроме человека, никто, даже сама вселенная, не задается вопросом «Почему?». – Доктор Эдвард Катчон-Тарр.