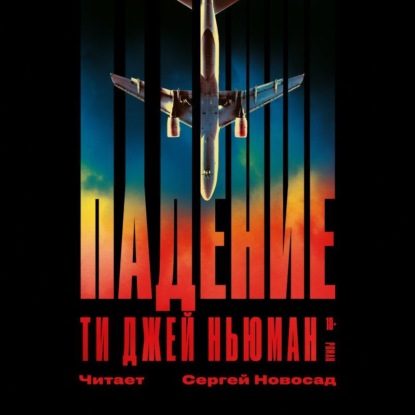Полная версия
Муравечество
У меня звонит телефон. Номер и местный, и незнакомый. Я никого тут не знаю, кроме кураторши с маленькой головой из киносообщества, управдома здания и…
– Это Инго Катберт.
– Инго!
– Из квартиры напротив.
– Да!
– Я твой сосед.
– Угу, – говорю я.
– Я видел твой фильм, – говорит он.
Он застает меня врасплох. Никто не видел мой фильм.
– «Гравитация в сущности»? – спрашиваю я, чтобы удостовериться.
– Я думаю, критики неправы, – говорит он. – Фильм совсем не, как они пишут, неумелый, претенциозный, не вызывающий отклик, неопытный, невыносимый, манерный, совершенно невыносимый…
– Вы уже сказали «невыносимый».
– Я сначала сказал «невыносимый», а не «совершенно невыносимый». Это из двух разных рецензий. И твой фильм ни тот, ни другой. Меня глубоко тронула беда твоего протагониста, Б. Розенстока Розенцвейга, когда он, как и его личная героиня, Бисадора Рункан, старается изобразить что-то неподдельное, пусть и не в мире танца, но в сфере идей.
– Критики были жестоки, – говорю я. – Спасибо.
– Я тоже режиссер, – говорит он.
– Да. Я знаю!
– И я надеялся, – продолжает он, – что, возможно, у тебя будет желание ознакомиться с моей первой пробой. Ее еще никто не видел.
– Спасибо! Да!
– Я не скажу тебе, почему хочу показать фильм, но у меня есть причины.
– Я понимаю.
– Возможно, эти причины станут тебе ясны в будущем.
– Хорошо.
– Но я не могу сказать тебе сейчас и не скажу, – говорит он.
– Время все расставит по местам, – соглашаюсь я.
– Скажу тебе так: человек – это не что-то одно. В это верят только дураки. И дураки тоже не что-то одно.
– Звучит логич…
– Ибо иногда дурак может быть мудрейшим из людей. «Если человек не понимает другого человека, то он склонен считать его дураком». Это сказал Карл Юнг. И в этом утверждении очень много правды. И, конечно, Юнг оказал огромное влияние на мое творчество и в целом на двадцатый век, когда ввел термин «коллективное бессознание».
– Бессознательное, – поправляю я.
– Это еще что? – говорит он.
– Коллективное бессознательное, – отвечаю я.
– Я так и сказал.
Нет, не так.
Но неважно. Инго Катберт полон сюрпризов. Теперь он говорит почти как я. Сколько раз я цитировал Юнга в точно такой же ситуации по поводу себя самого? Мой друг Окки ужасно грубо (но игриво!) пародировал то, как я произношу эту самую цитату (только без ошибки!), и, должен сказать, Инго сейчас говорит почти как Окки. Инго подражает мне? Или подражает Окки? Или он разносторонний человек с интересами, похожими на мои? Я ужасный расист! Неважно! Я посмотрю его фильм!
Я сижу на деревянном стуле со спинкой в затемненной комнате лицом к портативному экрану на штативе, пока Инго у меня за спиной заправляет пленку в проектор. Начинается знакомый, успокаивающий треск киноаппарата, а вместе с ним, без титров и прочих фанфар, начинается фильм Инго. Это черно-белая (значимость этой конкретной детали мне еще не открылась!), древняя и очаровательно наивная покадровая анимация. Задержимся здесь, чтобы прояснить историю жанра. Покадровая анимация – которую иногда называют анимацией движения, или пошаговой анимацией с реквизитом, или анимацией объекта, или трехмерной анимацией, или кукольной анимацией, или (в разговорной речи и неточно!) пластилиновой анимацией – почти так же стара, как сам кинематограф. Самый ранний пример: короткометражка Хайнриха Телемухера «Ich Habe Keine Augapfel» 1891 года, где у героя из орбит выпадают глазные яблоки и некоторое время катаются по полу. Кроме того, что этот фильм – важная веха в истории анимации, он важен еще по двум причинам. Номер один: это первый в истории фильм, в котором у кого-то выпадают глазные яблоки. И второе: этот прием стал неотъемлемой частью румынского немого и раннего японского звукового кинематографов. У румын выпавшие глазные яблоки служили метафорой объединения Румынии с Трансильванией, Буковиной и Бессарабией в 1918 году, у японцев же – для исключительно комических целей: часто только что лишившийся глазных яблок персонаж восклицал: «Теперь я вижу то, что видят мои лежащие на земле глаза!» или «Отсюда я кажусь гораздо выше ростом!» В конце концов этот прием стал настолько общим местом в японском кино, что один японский кинокритик емко пошутил: «Глаза выпадают так часто, что уже хочется, чтобы выпали твои собственные глаза, лишь бы не смотреть очередной фильм, где у кого-то выпадают глаза». Безусловно, по-японски это звучит более емко, там вся мысль передается с помощью всего лишь одного иероглифа кандзи.
Длинная кривая царапина справа на черном ракорде – так выглядит мое знакомство с творчеством Инго. Царапина весело скачет, пропадает, снова возникает. Превращается в некое подобие азбуки Морзе – точки и тире, и затем пропадает навсегда, ее заменяет «китаянка».
О, знаменитая, прекрасная «китаянка» кинематографа, чей красочный облик служит основой для калибровки всего, что последует дальше, – она одновременно и наблюдательница, и наблюдаемая, зримая и незримая. Из этой замкнутой, спокойной красавицы с улыбкой Моны Лизы выпрыгивает Мом, насмешник, злорадный бог комедии, ныне лишенный клыков проводник унижений, чудовищный смех из-за пятой стены, невидимый, но всегда присутствующий, она же – сестра Оизы, богини несчастий, которая только и ждет, чтобы увлечь нас в свое вязкое варево, и только после этого фильм начинается по-настоящему: рождение – разумеется, немое, – предсмертно хрипит тянущий барабан, вращается обтюратор, как тот безумец в парке Вашингтон-сквер, слышится неизбежный, непрерывный фоновый шум заводной вселенной, куда мы оказались изгнаны, наблюдая теперь «Происхождение мира», но, в отличие от версии Курбе, наше «происхождение» разверзается в новый мир, пока возникает головка младенца, выталкивая, кажется, новое сознание, защищенное сим покрытым кожей футляром, но в то же время уязвимое к воздействиям, к скверне, его родничок обнажен для нас – что может служить лучшим символом открытости и, следовательно, полной уязвимости самых маленьких? Можно ли считать метафорическим совпадением тот факт, что в течение месяцев череп срастется в единую кость, тем иллюстрируя последующую ограниченность, неизбежное, трагичное отделение «я» от Мира?
Конечно же, эго побеждает всегда. Всегда. И какой ценой?
И теперь человек – или, точнее, кукла, изображающая человека, – во фраке и с цилиндром на голове с огромным усилием шагает по экрану справа налево. Из-за бури? Вероятно, да, потому что человек склонился вперед и придерживает цилиндр. Позади него на грубом, но восхитительно раскрашенном фоне изображена улица.
Монтажная склейка – внутрь человеческого черепа.
Безусловно, в 1916 году, когда начинался этот фильм (или когда родился Инго?), кукольная анимация была еще в младенческом состоянии, и техника во многих отношениях довольно примитивна, но для того времени фокус нетипичный. Выглядит революционно, сбивает с толку. Что, если – как бы предполагает фильм – в голове у каждого из нас живут олицетворенные эмоции – радость, страх, ярость – и, в сущности, борются за власть? Конечно, эта идея не нова даже для 1916 года, и изначальная ошибочность этого очаровательно наивного предположения очевидна любому, кто читал Дэнни Деннета или историю картезианского театра. Но, боже мой, Инго проделывает с ней такое! Применяя лишь доступные в то время ограниченные технологии, что могли бы затруднить менее талантливого художника, Инго пользуется возникшей дерганостью для того, чтобы исследовать квантованную внутреннюю вселенную, где опыт – не плавный, где мыслительный процесс фрагментируют дискретные разрывы, где пределы разума обнажены, точно нервные окончания. Помните, фильм снят спустя каких-то три года после того, как дюшановская «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» произвела фурор на нью-йоркской Арсенальной выставке. Знал ли Инго об этой картине? Или это просто цайтгайст? Несомненно, к тому моменту футуристы уже опубликовали свой манифест. В любом случае мы видим, как внутри мозга, напоминающего фабрику, друг с другом воюют гомункулы. Там, конечно же, есть два окна, которые символизируют глаза, смотрящие на мир. Кто этот человек, чьими глазами мы видим? Это все еще загадка. Но в этом бою мы узнаём все действующие (или воюющие!) в фильме эмоции. И затем в окнах видим девушку. Маленькие существа прекращают драться. Глядят на красивую молодую девушку, что смотрится в зеркало. Она тоже кукла, но кукла в мире, который эти существа видят лишь сквозь окна своей тюрьмы, куда она сейчас всматривается. Они не могут отвести взгляда, пока она сама с застенчивой улыбкой не отворачивается от зеркала. Титр на экране нарекает ее «Возлюбленной», хотя в этом титре нет никакой необходимости.
И внутренний бой продолжается.
Склейка – снова мужчина идет против ветра.
Через каждые пять секунд медленного продвижения кукла скользит обратно – напоминает выступление мастера пантомимы или Майкла Джексона с его восхитительной «походкой лунатика», но этот малый, похоже, натурально борется с ветром, поскольку мимо пролетают вещи: детская коляска, мальчик с роликами на ногах, газета, которая кувыркается в упрощенной манере, словно твердая доска, все время обращенная первой полосой к зрителю. Можно ли прочитать текст? Я пытаюсь синхронизировать движение головы с движением кувыркающейся газеты. Можно! Как минимум отчасти! Заголовок: «Ожидается штормовой ветер». Забавно!
Возврат к сцене рождения: от внимания зрителя не ускользает, что всё здесь – чудо и трагедия появления на свет – исполнено неодушевленными объектами, видом напоминающими живых. Ребенок рожден, унижение матери с раздвинутыми ногами подошло к концу, по крайней мере на сейчас. Пуповина перерезана – еще одна метафора, – и эта вопящая мясная масса провозглашается человеком. Он белый; он мальчик: он привилегированный. Он рожден ночью – странный и очень специфичный выбор, поскольку чаще всего роды происходят утром. Неужели Инго хочет что-то этим сказать? Возможно, мать – Нюкта, богиня ночи? Тогда, значит, как и ожидалось, эти близнецы (да, сейчас появится еще один!) – Мом и Оиза, боги насмешки и страдания. Что они принесут в мир накануне Первой мировой войны? Этот мальчик высмеивает сестру из-за «отсутствующих» гениталий? Теперь мы, конечно же, знаем, что Фрейд ошибался, был женоненавистником и, несомненно, страдал от зависти к матке, а потом и от рака челюсти, однако возможно, что в те времена, когда теория Фрейда была еще такой новой и волнующей, она, вероятно, заинтриговала Инго, если не сказать больше? И Страдание – ведь такова ее планида, как и, возможно, планида многих женщин (трагическая!), – загоняет свой гнев поглубже, более того – принуждена к этому обществом. Гнев грызет ее изнутри, заставляет страдать, распространяясь по организму, сочится наружу сквозь поры и отравляет всех вокруг, а те отравляют всех вокруг себя, и на том стоит мир. Так рождены эти дети, и с их рождением начинаются все признанные ужасы двадцатого века, самого кровавого в истории человечества.
Глава 9
На заднем плане с неба падает странный объект, огромный и бесформенный. Кажется, он из глины (как, кстати, и люди, если верить многим мифам о сотворении), потому что сплющивается от столкновения с землей. Затем – еще один. Из них вытекает то, что можно описать не иначе как черной жижей. Если не брать в расчет то, как ужасающе выглядят эти упавшие и расколотые «кровоточащие шары», зрелище очаровательно наивное. Мужчина продолжает свой путь по экрану, и его усилия заставляют задуматься о моей собственной любви к погоде. К ее сложности, мощи, к ее капризному характеру. Погода, конечно же, очень похожа на лучшие произведения искусства: незаметно движется во всех направлениях одновременно. Если понаблюдать за деревом на ветру, то сразу ясно: ветер не просто дует в одну сторону – его микропотоки отдельно двигают каждый лист, каждую ветвь. Дерево, листья, ветки трясутся, качаются и описывают круги. Хотя, похоже, Инго в погоде интересует ее комический потенциал, а меня – ее метафорическое воплощение в виде орудия судьбы, я чувствую некоторое родство с… Это что еще такое? Ветер обдувает человека в цилиндре со всех сторон. Фалды его фрака взмывают вверх, и, пока он пытается поправить этот срам, цилиндр мчит за правый край экрана. На зрителя летит игрушечный воздушный шар, пока второй воздушный шар удаляется от экрана. Человек вращается на месте по часовой стрелке, как юла, и в кадр снова влетает мальчик на роликах и носится вокруг человека против часовой. И хотя анимация по-прежнему сделана наивно, исследуемые концепты вполне глубоки. И еще это очень комично! Ха! Ха! Особенно когда мужчина шлепается на свой зад и продолжает кружиться так, словно вращается на шесте, насаженный прямой кишкой. Ха!
Вскоре мальчик уже кружится так быстро, что его отрывает от земли и он исчезает в небесах. После идеально рассчитанной паузы человеку на голову падает один из роликовых коньков, а затем и второй. Ошеломленный, тот наблюдает, как ветер приносит обратно в кадр потерянный цилиндр, который затем поднимается к небу, подхваченный новым порывом. Мы наблюдаем, как кувыркается цилиндр – мимо зданий, в ватные облака, в небеса. Сперва камера на одном уровне с цилиндром, затем взмывает и смотрит вниз – мимо него, на джентльмена, наблюдающего за вознесением своего головного убора, – затем вверх, в неистовое небо. Теперь она средь облаков, что клубятся в примечательных, столь зыбких конфигурациях. В мгновение ока из простенькой комедии фильм превратился в трансцендентное и захватывающее дух полотно. Из черно-белых облаков сверкают молнии, и теперь отважный цилиндр летит сквозь душераздирающий туман. Буйная погода унимается до безмятежной, а цилиндр продолжает подъем, туман же рассеивается. И скоро наш цилиндрогонист взлетает над облаками, смотрит на них сверху вниз. Далеко внизу – туманная, одинокая Земля. Теперь мы сами видим мир с точки зрения (ТЗ) цилиндра! Мы лениво кувыркаемся в космосе, Земля теперь – далекое пасмурное воспоминание, небеса черные, пронизанные тут и там бриллиантовыми точками света. Очевидно, это приключение вдохновлено Жоржем Мельесом, но анимация здесь значительно опережает свое время. Откровенно говоря, она опережает любую анимацию, которую я видел по сей день, за исключением, вероятно, разве что «Бесподобного мистера Фокса» Уэса Андерсона – фантасмагорического пиршества для глаз во всех уголках экрана, вознаграждающего зрителя при повторном просмотре. Сравнивать работу Инго с фильмами мистера Андерсона, конечно же, невероятно несправедливо, поскольку мистер Андерсон – высокообразованный эстет, а Инго – сын издольщика (возможно), который работал носильщиком (вероятно), но – хотя мне следует попридержать свое мнение, пока не досмотрю фильм целиком, – я верю, что в пантеоне этого, к постоянному изумлению, своеобразного и, к немалому огорчению, устаревшего вида искусства они встанут почти на равных.
Цилиндр оседает на какое-то небесное тело. Очевидно, это не планета в нашей солнечной системе, поскольку цилиндр оказывается в поле, покрытом, точно пшеницей, кукольными руками, которые нежно шуршат под космическим ветром. Теперь цилиндр становится одушевленным, хоть объяснения и не предлагается. Он блуждает средь кукольных ручек – бесцельно, разочарованно, – пока мы наблюдаем за ним сверху. Цилиндр – это, конечно же, Гарри Галлер. Как Инго удается передать это зрителю – загадка. В конце концов, это же цилиндр, но у меня нет сомнений в том, что он стал Галлером. Пожалуй, вполне возможно, что сын издольщика Инго вовсе не читал «Степного волка» (хотя с работами Юнга он знаком, так что…), но даже в этом маловероятном сценарии некая божественная сила все равно наделила цилиндр чертами Галлера, прежде всего – всеобъемлющим отчаянием. Я смотрю на путешествие цилиндра и чувствую, что начинаю отождествлять себя с ним. Видите ли, в чем дело: я и сам – Гарри Галлер. Я тоже отчаиваюсь при взгляде на бездумный мир вокруг. И потому, взирая, как этот Шляпа Шляппер, если угодно, тщится найти смысл в буржуазном мире, я проливаю слезу за всех нас. Внезапно пейзаж меняется, мы (Шляппер и я) оказываемся у подножья невозможно огромной горы, напоминающей гору Аналог из книги Домаля, которая, конечно же, будет написана лишь несколько десятилетий спустя. Теперь у Шляппера есть цель – он начинает восхождение. Я смотрю сверху, как он карабкается ко мне. Я на вершине. Здесь мы и встретимся. Но кем я стал в этой истории? Он поднимается и поднимается, все ближе и ближе, пока не садится рядом, безглазо глядя на меня, и я чувствую прилив любви. Наклоняюсь, чтобы поднять его, – теперь мои руки сотканы из света, – и надеваю. Я больше не вижу Шляппера, потому что он у меня на голове (если поднять взгляд, видно краешек полей). Спустя мгновение я снимаю его, и ныне он светится своим собственным светом. Я запускаю его, будто метательный диск «Плуто Плэттер», и он вращается в черном пространстве в сторону далекой Земли. И вновь я оказываюсь рядом, когда он входит в земную атмосферу и его швыряет из стороны в сторону до сих пор бушующий шторм (прошло ли хоть сколько-то времени в этом измерении?). Мы наконец-таки прорываемся сквозь облачный покров и видим, как наш джентльмен таращится в небо. Сияющая шляпа опускается ему на темя, наполняя новообретенным покоем. Он продолжает путь против ветра, ныне жизнерадостным и бодрым. Тотчас же ветер отламывает от дерева ветвь и бьет человека по голове, раздавив ее, как виноградину, расплескав всюду кровь, подобную черной нефти. Человек умирает.
* * *И рождаются дети – близнецы, в коих узнаём мы Мома и Озию, но Инго нарекает их (с помощью своеобразного алфавита языка жестов, которые появляются на экране справа) Бад и Дейзи[26] – ботанические имена, наводящие на мысль о бренном. Такое прочтение, разумеется, далее укрепляется выбором их фамилии – Мадд[27]. Бад и Дейзи Мадд неразлучны, не включают в свои игры других. Болтают на личном выдуманном языке (субтитры на экране слева). Одеты в одинаковые сарафаны. Этот обычай начала XX века одевать мальчиков и девочек в одежду для девочек проводит неудобную параллель между младенцами и женщинами (женщины так и не перерастают эти платья, тогда как мужчины постепенно взрослеют, по мере того как удлиняются их штанины), но еще говорит о том, что мальчики должны «заработать» свою мужественность. Как нам теперь известно, все эмбрионы начинают свою жизнь как девочки. «Мужские» характеристики развиваются позже. Мужчина «зарабатывает» пенис. По крайней мере, в это верили наши праотцы (не говоря уже о моем собственном отце, Джереми). Еще один и, возможно, более точный взгляд на эту причуду генетики: мужчина превосходит планку женского совершенства, перерастает идеал, подобно тому как ирландский олень отращивает настолько большие и громоздкие рога, что они в итоге приводят его к вымиранию; так и мужчина, подчиняясь потоку тестостерона, отращивает пенис, самый нежелательный и громоздкий вырост (не путать с женскими «выростами» – их грудью). Некоторые шутливо зовут пенис вторым мозгом, но в этой шутке, помимо леденящего ужаса, есть доля правды. И мы должны задаться вопросом, как задается им Инго: действительно ли эти пенисы-выросты приносят пользу или тоже приведут к исчезновению вида?
А затем, а затем, а затем: Бад случайно, но жестоко убивает Дейзи во время ужасно неудачной детской игры в бабки. Это – метафорическая ампутация его женской сущности.
Важная заметка:
Вольфганг Паули?
Unus mundi?
Теория спина?
Нужно понять!
Изучить вопрос!
Убивает, конечно, в результате несчастного случая с участием игры в бабки и штыка, привезенного отцом с войны. Эта резкая ампутация будет преследовать Бада и приведет к пожизненной сепарационной тревожности, постоянным разрывам и воссоединениям (воссо-един-ениям!) с будущим партнером (как сообщает нам пророческий титр) в попытках воссоединиться с утраченной частью души. Мы вспоминаем о вечных разрывах и воссоединениях связей между атомами водорода и кислорода, пока они образуют воду, и узнаём в этом процессе аналог вечных разрывов и воссоединений Мадда и Моллоя (это будущий партнер Мадда, сообщает нам второй титр), только на меньшем уровне (или на большем!).
Заметка:
Расщепление воды? Изучить вопрос! Взял ли я с собой книгу Лачинова? Проверить багажник при первой же возможности!
Продолжая аналогию, один Мадд – это на самом деле два человека, поскольку Дейзи теперь всегда будет частью его сознания. Каждое решение диктуют шрамы от ее отсутствия в его жизни, существующие в виде воспоминаний. Таким образом, Мадд – это водород (два атома) по отношению к единственному атому кислорода, Моллою. Мадд взрывоопасен, Моллой – едок. И тем не менее вместе они способны поддерживать жизнь. Наверняка именно об этом Инго пишет нам в титре, в котором так все и написано.
Экран чернеет – ужасный, темный черный цвет. Щелк, щелк, щелк, щелк…
Глава 10
– Это первая бобина, – говорит мне Инго, затем добавляет: – Это комедия.
– Невероятно, – говорю я. – Сколько там еще? Я бы хотел посмотреть все, если позволите.
– Три месяца, – говорит он.
– Три месяца – это в месяцах?
Он кивает, мудро глядя на меня усталыми, слезящимися, воспаленными, остекленелыми афроамериканскими глазами.
– Продолжительность фильма – три месяца? – переспрашиваю я. – Просто уточняю.
– Плюс-минус. Я снимал его на протяжении девяноста лет. Плюс-минус.
– Вы же понимаете, что это в три раза больше, чем современный рекорд хронометража? Я это знаю, потому что написал чрезвычайно длинную монографию – рекордно длинную, чтобы воздать дань, – о длинных фильмах под названием «Шоа за спешка? Недооценка длинных фильмов в современной кинокультуре фастфуда». Возможно, вы ее читали?
– Лежит у меня на прикроватной тумбочке, – говорит он.
– Ну, прочитайте, если найдете минутку. Ну, не минутку. Год. Я хочу сказать, что длина вашего фильма – это само по себе огромное достижение. Как вы его назвали?
Он думает.
– Ну, пожалуй, я бы тоже назвал его достижением, – говорит он.
– Нет, в смысле сам фильм. Как вы его назвали?
– Ты хочешь знать название фильма или как я его ласково называю?
– Название, – говорю я.
– У него нет названия. Но я называю его своей девушкой.
– Это даже блестяще. «У него нет названия, но я называю его своей девушкой».
– Нет. У него нет названия.
– То есть «У него нет названия» – это его название или у него нет названия?
– Кажется, ты нарочно притворяешься тупым.
– Ну, я…
– Название необходимо фильму, чтобы зрителю было как его обозначить, когда он покупает билеты или обсуждает его с друзьями. Чтобы маркетинговым отделам было чем зацепить зрителя. Чтобы свести фильм к чему-то, что зритель может проглотить, контролировать, понять.
– Ну, так вышло, что я люблю названия. Придумывать остроумные названия для меня большое удовольствие.
– Поскольку у меня нет намерения показывать фильм публике, нет и потребности в названии, – говорит он.
– Разумеется. Наверное. Немного по другому поводу вопрос: почему всякий раз, когда мы говорим, у вас меняется стиль речи?
– На что ты намечаешь?
– Намекаю.
– Да, намекаешь.
– Не знаю. Когда мы ехали в машине из больницы, вы говорили в простецкой манере. Потом был период, когда вы отвечали только цитатами из Библии.
– Я – чье-то творение, как и ты. И сотворил Бог человека по образу своему. Бытие, 1: 27.
– Вот видите, у меня ощущение, что вы просто вставили цитату, потому что я напомнил вам о Библии.
– Тебе довелось быть единственным свидетелем моего фильма. Когда ты посмотришь его целиком, я его уничтожу. Или, если я буду мертв, ты уничтожишь его вместо меня. Таковы правила.
Я киваю, хотя, конечно же, не буду этого делать. Для Инго я – как Макс Брод для Кафки. Этот фильм, даже если в течение следующих трех месяцев он скатится в невнятную белиберду, должен быть спасен для потомков. Мир должен его увидеть. Но самое важное – я должен посмотреть его семь раз.
– Я его уничтожу после того, как посмотрю семь раз. У моего безумия в этом отношении тоже есть свои правила – и в других отношениях тоже. Ха-ха! Видите ли, чтобы правильно понять значительный фильм, его нужно посмотреть минимум семь раз. Годы проб и ошибок – сначала в качестве критика-любителя в «Гарвард Кримсон», студенческой газете Гарвардского университета, где я учился, затем в разного рода импринтах, журналах, «зинах», плюс экспериментальный двухмесячный испытательный срок в качестве кинокритика для каталога «Хаммахер Шлеммер» – позволили мне довести технику просмотра до совершенства. Это была нелегкая борьба за овладение формой. Дайте я объясню: первый раз я смотрю фильм правым полушарием, так называемым интуитивным центром мозга. Годы практики позволили мне позволить фильму омывать меня. Я снимаю свою «шляпу» критика – кто-кто, а вы прекрасно разбираетесь в шляпах! – и смотрю фильм так, как смотрел бы дилетант, не обращаясь к огромной библиотеке по истории кино в самом центре центра моего мозга, не выискивая режиссерские отсылки и «переклички», как некоторые их называют. Этот тип просмотра будет позже. А пока я – простолюдин, или простолюдинка, или простотон. Подобный вид просмотра я называю «опыт безымянной обезьяны» – такое название он получил ввиду отсутствия у обезьяны интеллектуальности и эго, а также из-за ее (тона) безудержной дикой страсти. В конце концов, сперва фильм нужно «прочувствовать» – и это, возможно, самый важный просмотр. Отсюда Первый Шаг: да, я непроизвольно рыдаю, или непроизвольно смеюсь, или непроизвольно размышляю над тем, что вижу на экране. Второй Шаг: почему? При втором просмотре я снимаю «шляпу» безымянной обезьяны и надеваю «шляпу» психолога, но это не буквальная шляпа – отсюда кавычки пальцами, – а скорее отношение или подход к фильму, хотя, чтобы четко отделить один вид просмотра от другого, в процессе я действительно представляю себя в разных шляпах. Шляпу «психолога» я представляю себе чем-то вроде модифицированного трилби, так как роман Дюморье хотя бы отчасти – еще и о человеческой психологии. Я часто говорю, что я одновременно и Трилби, и Свенгали, и в то же время ни один из них, а скорее – сам Дюморье. А-ха-ха! «Почему»-просмотр требует глубокого погружения в собственное подсознание, чтобы нащупать личную связь с фильмом. «В чем именно этот фильм обо мне?» – должен спросить я. Это, вероятно, самый важный просмотр. Как вам может быть известно, Инго, мое ныне знаменитое эссе о «Семейке Тененбаум», озаглавленное «Отцы и АндерСыны» – а это не что иное, как попытка обыграть название романа Тургенева «Отцы и дети», где я заменил «дети» на «АндерСыны», что является отсылкой к фамилии режиссера Андерсона, а именно Андерсон, а также отсылкой к Андеру Элосеги, испанскому каноисту, – это эссе есть итог важной внутренней работы, проделанной во время Первого Шага. Ни для кого не секрет, что я чувствую родство со всеми сынами и всеми отцами из фильмов Андерсона – и даже с дочерью, Гвинет Пэлтроу – у-ля-ля. Но не всем читателям известно, что моя способность плыть в потоке сознания весьма похожа на способность Элосеги управляться с речными потоками. Третий Шаг – это «как». Здесь я пускаю в ход свои обширные познания в области кинематографа, чтобы узнать, как режиссер достиг его/ее/тона результатов. Что означает это «панорамирование»? Чем важен этот «наезд»? Зачем тут «24-мм объектив»? Я также изучаю «монтажные сочетания», «мизансцены», «расстановку актеров» и «танцевальные номера», чтобы определить, как эти и другие кинематографические приемы заставили меня непроизвольно плакать, смеяться и предаваться размышлениям в ходе вышеупомянутого просмотра «безымянной обезьяны» – который, как вы помните, был Первым Шагом. Кроме того, здесь я принимаю к сведению отсылки режиссера к другим фильмам. В случае со Скорсезе и Таррантиноо это огромная работа, столь энциклопедичны их познания в форме. Безусловно, я не большой поклонник творчества Таррантиноо – его увлечение ложной, стереотипной афроамериканской культурой и подростковая одержимость насилием оставляют меня равнодушным. Он тем не менее известный мастер необычных «ракурсов», в частности поразительного «вида из багажника», который во Франции известен как «вид из coiffre de voiture», а в Американском Самоа – как «вид из чемоданчика». Четвертый Шаг: просмотр от конца к началу. Предназначен для того, чтобы смотреть фильм как «несюжетный авангардный эксперимент на иностранном языке». Иными словами, это позволяет увидеть фильм как последовательность не обремененных смыслом изображений. Вот, дорогой Инго, мой шанс увидеть фильм как чисто эстетическую конструкцию. Потребность знать ответ на вопрос «Почему?» запрограммирована в ДНК каждого человеческого животного, будь это он, она или тон. Поиск причинно-следственных связей вшит в наш мозг. Но «Почему?» – это несомненно и исключительно человеческий концепт. Я считаю, что «Почему?» – это не какое-нибудь независимое свойство вселенной. Вселенная не задает вопросов. Вселенная не спрашивает, как работает микроволновка. Вселенная просто есть. Поэтому при извлечении из фильма сюжета и концепта причинно-следственной связи исчезает из него и «Почему?», исчезает предполагаемый порядок, и после этого фильм можно смотреть – во всяком случае, я на это надеюсь, – так, как если бы его смотрела сама вселенная. Пятый Шаг: вверх ногами. Я думаю, вы согласитесь, что мы, американцы, принимаем гравитацию за должное. Возможно, это утверждение верно и для других культур; не чувствую себя компетентным, чтобы говорить за другие культуры. Но у нас гравитация – это как бы «ну о’кей»: вещи падают, привыкай. Игнорируя же ее воздействие на нас и на физический мир, мы также не замечаем ее воздействия на наше сознание. Просмотр фильма вверх ногами позволяет мне сосредоточиться на этом аспекте. Некоторые режиссеры задумываются о гравитации не больше среднестатистических американцев, но в уникальных случаях – Апатоу! – мы можем видеть, как режиссер осмысляет гравитацию в каждом кадре. Не посмотри я «Это 40» вверх ногами, – кстати, неслучайно вверх ногами фильм называется «Это 04». Дети заводят детей! Верно? – никогда бы мне не уловить более глубокого значения сцены, где Пол Радд говорит с Лесли Манн, сидя на унитазе. Он буквально не дает дерьму расплескаться по всей комнате. Можно представить, режиссер Апатоу сказал ему притвориться, что он как бы между делом сидит на унитазе, – и это поверхностный юмор, подчеркивающий, что у этой давно женатой пары не осталось места для тайны; они безо всякого смущения говорят, пока срут. Но посмотри вверх ногами – и внезапно Пол Радд мужественно сражается с фекалиями, что вот-вот выплеснутся на его жизнь. Ваши Таррантини со всей их пиротехникой никогда не смогут исследовать гравитацию в манере Апатоу. После просмотра вверх ногами я перехожу к Шестому Шагу и еще раз смотрю фильм в традиционной манере, чтобы закрепить ощущения и найти для фильма место – если такое найдется – в одном из множества моих списков: лучшие фильмы года, лучшие фильмы десятилетия, лучшие фильмы столетия, лучшие фильмы всех времен. Затем все вышеперечисленное – в каждом жанре: ужасы, комедия, вестерн, триллер, боевик, драма, научная фантастика, военная драма, иностранный фильм. Затем – по актерской игре: актер, актриса, тон, актер второго плана, актриса второго плана, тон второго плана, актерский ансамбль, тонсамбль. Затем по режиссуре, операторской работе, монтажу, саундтреку, сценарию, кастингу, лучшие ЛГБТКИА-фильмы: лучший тон, лучший тон, лучший тон второго плана, лучший тон второго плана. Задача эта ужасно времяемкая, но необходимая. Без списков, составленных поистине образованными критиками, дилетанты оказались бы в заложниках у голливудских маркетологов и звездных прихлебателей. Седьмой шаг – это не смотреть фильм. Это и есть метод семи шагов к просмотру любого фильма незамутненным взглядом. Ах да, и еще, Инго, забавно, что вы сняли комедию – а, кстати, буквально забавно! Обязательно начну с этого свою лекцию «Апатауэр оф сонг»; даю ее через месяц в профсоюзе музыкальных супервайзеров на втором этаже «Макдональдса» на Западной 4-й улице. Но сейчас я хотел сказать, что комедия говорит не о мудрости и доброте. Она говорит о гравитации и тупости. Человек, контролирующий свое окружение, не смешон. Человек, понимающий свою жизнь, не смешон. Тогда почему смешно, что человек падает? Почему смешно, когда человек глупо себя ведет? И действительно ли это смешно? Когда в жизни кто-то получает травму – это смешно? Когда кто-то в тупике и сбит с толку – это смешно? В большинстве своем люди ответят, что нет. Тогда почему это вызывает смех при просмотре? Причина комплексна. Отчасти, возможно, зритель понимает: фильм – это выдумка, никто на самом деле не пострадал. Конечно же, бывали и такие поучительные ситуации, когда тот или иной комический актер умирал прямо на сцене, и зрители, полагая, что это часть представления, смеялись и аплодировали. Два ярких примера – Гарри Эйнштейн и Дик Шон. Давайте предположим, что приведенный в движение механизм – физика, тоска, бренность, тщетность – представляет собой нечто вроде хитроумной машины Руба Голдберга, разработанной без расчета на приносимую пользу и без какой-либо цели, кроме как для того, чтобы, скажем, за ней наблюдала некая лавкрафтовская сущность, потехи ради. Мы смеемся над жестокостью сцены из «Летающего цирка Монти Пайтона», где человеку отрубают все конечности, потому что знаем, что это притворство, но лавкрафтовская сущность может смеяться над тем, как человеку отрывают конечность в действительности, потому что сопутствующие страдания не имеют для нее значения. От вашего фильма – из того, что я успел посмотреть, – у меня ощущение, что вы ближе к Апатоу, чем к Лавкрафту, что вы искренне сочувствуете своим персонажам. Это так?