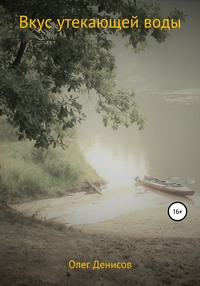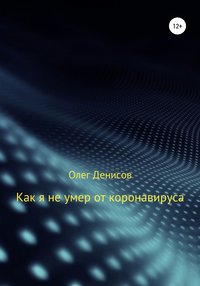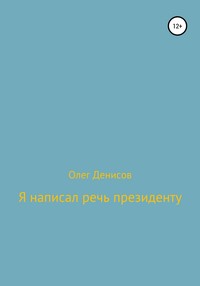полная версия
полная версияФеномен зяблика
– И что? – спросил начхран совершенно глупым лицом.
– Слава Богу, не подарили. Где бы мы столько мотоциклов взяли…
– Твою мать! – злобно выразился начальник. – Я же с самого начала просил – не иби мне мозг, Дарвин!
– Так! – закричал я в ответ на агрессию. – Я иду строго по дороге, никуда не сворачиваю, не ем и не пью, и даже не писаю в придорожную пыль. К вечеру покину территорию заповедника. Потому что сто лет назад, после окончания школы, мы с товарищем прошли пешком вдоль всей Сежы до самой Волги. И теперь я хочу повторить этот путь. И мне плевать какой политический строй сейчас в стране! Я не могу сказать «потому что я свободный человек». Это вряд ли! Но потому что это земля моя и эта река моя. Мои ноги протопали по этой дороге задолго до вашего здесь появления. С течением этой реки я раз пятнадцать или двадцать спускался вниз по течению. Поэтому – гоу ту жопа, господа!
– Чего разорался. Мы особо никому не препятствуем, – примирительно произнес начхран. – Давай паспорт, сейчас мы тебе оформим пропуск. Через 15 минут у нас пойдет машина на Южную базу, они тебя и подкинут, почти до самого выхода из заповедника. А то ты мне тут еще про 27 статью Конституции втирать начнешь. Кого не поймаешь, сразу вспоминает про Конституционные права.
– Идиоты! – согласился я. – Лично я в Конституцию не верю, только – в здравый смысл.
– Не знаю, кто из вас глупее, – задумчиво произнес начальник охраны, изучая мой паспорт. – А меня Михаил зовут. И я не начальник охраны, а заместитель директора по безопасности. Кстати, насчет посикать в придорожную пыль. У нас тут недалеко от заповедника проходит путь Батыя. Мне недавно показали. Когда монголы шли завоевывать Русь, они передвигались по льду рек. А по весне, когда почти всех покорили, они повернули на юг в степи. И им пришлось двигаться по водоразделу рек через леса. Так вот. Местами этот путь до сих пор до конца не зарос. Представляешь, продвигается через лес многотысячное войско. У каждого монгола по 2-3 лошади на смену – это исторический факт. Двигаются узкой полосой, медленно, возможно, даже приходится вырубать дорогу. Потому что многие историки считают, что в те времена в России дорог, в принципе, не было. Колонна растягивается на несколько десятков километров, многотысячный табун лошадей все вытаптывает на своем пути. И кто-то постоянно справляет нужду, включая тех же лошадей. Почва прессуется и засаливается так, что потом на ней долго не может ничего произрасти.
– По-моему, тебя развели. Копать не пробовал? Может там, под копытами, закопан газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород»?
Заместитель директора по безопасности Михаил пожал плечами, но спорить не стал. А я подумал, что если экологам не давать отпор, они запретят нам ссать. Когда с глупостью не борются, у нее отрастают крылья.
***
– А чего ты так испугался, когда вчера пулей выскочил из заповедника? – спросил Михаил, возвращая мне паспорт.
– А ты откуда знаешь?
– У нас видеокамеры везде стоят, мы за тобой давно наблюдаем, – важно ответил Михаил.
– А можно посмотреть?!
– Что именно? – по тону было понятно, что Михаил не склонен выдавать дислокацию камер, «которые стоят повсюду». Видимо, чтобы я не сдал информацию браконьерам, коммивояжёрам и контрабандистам.
– Покажи мне, как я «пулей выскакиваю из заповедника», и тогда мы узнаем, что за чудовище меня чуть не съело.
– А ну, пойдем, – согласился заинтригованный Михаил.
Мы перешли в соседнюю комнату. Михаил выбрал на мониторе изображение с нужной камеры. И пока он искал в архиве файл с нужным временем, я невольно группировался, чтобы снова бежать.
Камера была установлена где-то на самом краю леса и действительно показывала дорогу, выходящую из заповедника. Качество изображения было очень посредственным, человека можно было идентифицировать только по особенностям походки или элементам одежды: в сапогах, в шляпе или с косой. Но я решил, что уж троллейбус то как-нибудь распознаю.
Вдалеке показалась точка. Она быстро приближалась, но я даже и не пытался разглядеть проявляющиеся детали. Я всматривался в экран, пытаясь разглядеть, что движется за ней, то ест за мной. Ничего! Ровным счетом ничего. Даже, когда в центре экрана я превратился в сайгака, высоко подкидывающего колени, дорога за моей спиной оставалась пустынной. Михаил остановил воспроизведение в тот момент, когда я уже выскакивал из последнего кадра, чтобы продемонстрировать мне крупным планом «нелепо растерянное лицо полное ужаса». Но мне было все равно. Я думал только о том, куда подевался мой троллейбус. Он точно выкатился на опушку леса следом за мной. Да еще и успел пошевелить своими штангами, как жук усами – я это хорошо запомнил. Он должен был во всей красе вписаться в видеоролик, а его нет?
Понятно, что это точно не сон и не чей-то хорошо спланированный розыгрыш – я-то точно в кино бегу, и также точно, что это именно я бегу. А его нет! Вот бы никогда не подумал, что мне так будет его не хватать. Мне стало как-то неловко за свое здоровье. Видение, привидение, глюк, мираж, фантом, белая горячка – перебирал я в уме, пытаясь осознать разницу.
– Стаа-влю на «Черну-ую-ю ка-ра-катицу»! – неожиданно пропел я вслух. – А ты не знаешь, мираж можно сфотографировать?
– Мираж можно, – заверил «директор по разведке», – потому что мираж – это просто оптический обман. Есть куча фотографий и даже видео. А вот привидения фото фиксации и видеосъемке не поддаются.
– Спасибо… Вот тут я в замешательстве, – честно признался я Михаилу, – что лучше выбрать: привидение или помешательство. Раньше я был полностью в себе уверен, что могу сойти только с поезда. А теперь подозреваю, что не только. И что я дома не остался…?
– Давай рассказывай, что тебе привиделось, – тоном психолога предложил Михаил. – Не ты у нас первый, да и вряд ли на тебе все закончится.
Я понял, что он чего-то знает и достаточно подробно рассказал, как за мной гналась какая-то машина. Что это был троллейбус, я не стал уточнять.
Пока я все это рассказывал Михаилу, мне пришла мысль – а вдруг, когда люди сходят с ума, все как один, видят троллейбус? Только все молчат. Нет, это вряд ли. Все видят только всяких зверьков: белочек, бурундучков или чертей. Однако, те из них, кто при этом выпрыгивают из окна, возможно, спасаются именно от троллейбуса? Все-таки хорошо, что я дома не остался.
– В общем, подобная чертовщина у нас случается постоянно, – приподнял мою самооценку Михаил. – Мне даже пришлось частично поменять охрану. Местные под любым предлогом отказывались патрулировать часть заповедника до Старого яра. Они даже называли ту часть «темной». А другую, от Старого яра до Пижны, видите ли, «светлой». Туда – пожалуйста.
***
Езда на «Шишиге» по дороге заповедника называлась патрулированием. «Видимо, заповедник до Старого Яра патрулирует дикий троллейбус, а после Старого Яра – все остальные» – решил я. Несмотря на жесткую подвеску ГАЗ-66 по определению, мы доехали почти с комфортом. Меня высадили, когда машина свернула налево с основной дороги на какую-то станцию. Я решил, что космическую, потому что знал – железнодорожной тут точно нет. С песней «Таких не берут в космонавты» я продолжил свой путь пешком. Сама дорога была не в пример лучше: колея не такая глубокая, и песок не такой сыпучий, как «в первой серии».
Глава 10. Экология как любовь к ближнему
Через 2 км, как мне было и предсказано, я пересек границу заповедника. Я это понял по большому стенду на обочине. На плакате была изображена общая схема охраняемой территории и различные запретительные надписи. Табличка поменьше объявляла, что я уже нахожусь на территории охотхозяйства «Великомученическое» и приглашала пострелять. «Хорошо устроились ребята, – подумал я, – те берегут и взращивают, а эти уже пользу окучивают». Мне даже стало обидно за замдиректора по разведке – не проинтуичил ситуацию. Какая граница?! Шаг в сторону, и вот тебе Джеймс Бонд с «лицензией на убийство». Ну, и его высокопоставленные товарищи – слуги народа: Тот, кто должен нарушать, Тот кто, должен пресекать и Тот кто должен, карать. Все в одной кошелке с песней «Мы вместе!», поэтому им везде и всегда барабан.
Должна же быть какая-нибудь буферная зона. Нейтральная полоса. Где первые уже не берегут, а вторые еще не стреляют. Где с корзинкой уже можно, а с ружьем еще нельзя. И везде таблички на деревьях: «Не стрелять! Зона примирения».
Звери и птицы очень быстро осознают, где безопасно. И даже понимают, что забор это преграда для кошек, собак и других врагов, но читать таблички пока не умеют. В молодости, когда я пас коз и подрабатывал учителем в сельской школе, я получил участок на краю села и огородил его с трех сторон деревянным забором. В первый же год зайчиха выкармливала там своих зайчат, а ежиха своих кактусят. Заповедный эффект был потрясающим! Забор защищал от спутников человека, а близость к человеку от естественных врагов.
Зато на дачах совсем не стало певчих птиц. Такая концентрация кастрированных котов на единицу площади не дает им шансов вывести потомство. Выжили одни зяблики. Хотя сады и парки считаются у орнитологов самыми густонаселенными птичьими зонами. В силу разнообразия биотопов: тут и кустарник, и деревья, и различные строения, и луг. Отсюда и большое видовое разнообразие гнездящихся птиц. У бабушки в огороде всегда гнездились птицы, то в крыжовнике, то в смородине, то в малине; ласточки на доме, воробьи всегда в бане. А в доме – две кошки. И в каждом доме, как минимум, по кошке. И ничего! Под естественный отбор, конечно, всегда кто-то попадал… Но гнездящихся птиц в деревне всегда было больше, чем в лесу. Потому что участки были не по 5 соток: большой огород, за ним усад, за усадом сразу начинался лес. Перед домом широкая деревенская улица. На той стороне другой ряд домов, за ними тоже огороды, потом усады, потом поле. Получалась устойчивая экосистема. А на дачном участке? Слева сосед, справа сосед, спереди и сзади по соседу. И даже сверху кто-то пытается что-то настроить: то ли рояль, то ли непонятное, но красивое слово «мезонин». Да и сам дачник всегда не один. Он приводит с собой Жучку, Мурку, Мышку и Мусор. Бабка идет по умолчанию. Видимо, на тот случай, если чудом вырастет репка. Благодаря мусору к дачнику приходят друзья друзей: сороки и вороны. Основные пожиратели птичьих кладок и птенцов. После них котам уже делать нечего, хоть мышей лови.
А вот в деревне их практически не было – сороки были только в лесу. Потому что мусора тоже не было – ни одной общественной свалки на всю деревню. Старые ботинки сжигались в бане, а что не горело, закапывалось на «задах» в землю (в основном это были консервные банки). А сейчас попробуй сжечь что-нибудь в бане. Все! Баня не удалась – жар не тот.
Получается, чтобы вернуть птиц на дачу я должен выполнить программу минимум:
а) убить собственного кота, б) отгородиться от соседских извлекателей репы непроходимым забором, в) начать отстреливать сорок. Как-то это не орнитологично получается?! Грубое вмешательство в живой биоценоз.
А программа максимум? Вот тут все просто. Программа максимум – это стандартная экологическая программа – убить всех! Чтобы некому было даже сорри-ть за мусор, сам-то я, дескать, не буду, я же эколог. И сразу наступит идиллия. Опарыши будут пожирать трупы котов и соседей. Из опарышей, не сразу, а потом, будут вылупляться мухи. Птицы будут питаться этими мухами и сказочно петь от удовольствия. Экология, не как этап развития биологии, а как прикладное общественное движение (от слова «приклад»), штука жестокая, она не признает человека животным. И значит, у человека нет никаких прав на среду обитания. Твой дом неожиданно встал на пути миграции бобров?! Все. Тебе не повезло, забирай свои манатки, и да здравствуют бобры! Еще и климату спасибо – у гиппопотамов от нашего мороза насморк и мигрень. Так что потепление климата для дачника смерть.
С такими грустными мыслями о судьбе своих соседей по участку… и котов, я шел вдоль заросшего кладбища. Я знал, что сейчас будет Пижна. Когда, более двадцати лет назад, мы с Димкой подходили к поселку, уже вечерело, и кресты вдоль дороги придавали нам прыти. Поэтому я и запомнил этот переход из царства мертвых в мир еще живых.
Пижна уже тогда умирала, но мы не поверили. Была пятница, было шумно, люди пели почти всю ночь. Возможно, праздновали свадьбу – я точно не помню. Мы с Димкой расположились под высоким берегом. Здесь нас и нашел местный Дембель. Он только что вернулся из армии домой и был при полном параде: шевроны, лычки, фуражка, отполированная изогнутая бляха кожаного ремня – все как полагается. Возможно, даже само торжество было по случаю его прибытия. Я не помню. Но он точно звал нас к столу, но мы постеснялись. Он просидел с нами до самой темноты, поведал что-то про армию, которая ждала меня уже осенью, потом принес нам вяленой рыбы. Он-то нам и рассказал, что когда начались пожары 72 года, все жители поселка спасались тем, что залезали в Сежу по самую шею. Только там у самой воды можно было дышать. Поселок развивался при Советской власти после войны как лесозаготовительный, давно свел все леса в округе и перешел на заготовку торфа, вот торфяники и горели, забивая и без того раскаленную атмосферу удушливым едким дымом. А после 72-го и торфоразработки закрыли, людей стали расселять. По его словам большинство перебралось в Старый Яр вместе со своими домами.
Ночью мы с Диманом жутко замерзли. Вернее, мы мерзли всю ночь, пытаясь спать. Кусок полиэтилена, в который мы заворачивались в предыдущие ночи, на речном песке оказался совершенно бесполезным. С того случая я всегда беру с собой в поход палатку, и никогда не ставлю ее на песке. Интересно, что до этого мы всегда ходили без нее, по причине ее отсутствия.
Чуть стало светать, мы тронулись в путь с единственной целью – закончить поход сегодня, чтобы больше никаких ночевок. Мы шли по еще темной улице, и никаких следов запустения не заметили: обычная деревня. На самом краю мы прошли мимо двора с раскрытыми воротами. Во дворе горела лампочка, и мы видели, как женщина доила корову – скоро погонят стадо. Жизнь шла своим чередом.
Я не знаю, через сколько лет, снова попал в Пижну. С рекой я почти не расставался. После армии, пока учился в университете, мы каждый год сплавлялись на байдарках на майские праздники. По очень жесткому графику – четыре дня на всю реку. С учетом весеннего паводка, это реально, но без ловли рыб, ворон и осмотром окрестностей. Поэтому Пижна для нас была только ориентиром в пути. И когда однажды я все-таки взобрался на ее крутой берег – было уже поздно. На огромном пространстве лежали останки каких-то хозяйственных построек и раскиданы предметы человеческого быта. Я почувствовал себя космонавтом, который вернулся на Землю, но опоздал: цивилизация уже разрушена, людей больше нет. Сбылась мечта экологов, ура! Кругом только многочисленные зеленые ящерицы, которые снуют по обломкам.
С годами постепенно исчезали и обломки и ящерицы, с трудом поляна постепенно зарастала лесом. Только в дальнем конце, у самого леса в овраге, оставалось два дома, по слухам там жили егеря. Вот туда-то я сейчас и направлялся в поисках своего старика.
Наконец, дорога привела меня в Пижну. Может из-за того, что второй раз в жизни я вошел в эту жизнь пешком, а не вылез из байдарки, на меня нахлынули романтические воспоминания, связанные с этим местом. Нахлынули – это художественное преувеличение. Воспоминаний было всего три. Все три были очень короткие и яркие, но без каких-либо деталей: иволги, которые пели на противоположном берегу весь вечер; парень, который угостил нас рыбой; и женщина, доившая на рассвете корову. Это очень дорогие для меня воспоминания, и я знаю почему. Картина или фотография с нагромождением камней, льда, скал, гор… С лучами заходящего или восходящего солнца… С изображением неба или воды, в котором это небо отражается… Песок, снега, травы, деревья, иней на деревьях и самые прекрасные цветы… Такая картина не имеет для меня художественной ценности, если в ней нет присутствия человека. Хуже того, я чувствую в ней руку дьявола, особенно, если в кадре нет солнца. Даже текущая вода остается мертвой, пока не переброшен мост через ручей.
А вот на следующее почему – я не готов ответить. Возможно, мы на этой планете не просто так? Звено цепочки, без которого вся цепь рассыпается, фишка без которой не складывается пазл? Может, и старика я пытаюсь найти, чтобы найти ответ на этот вопрос?
Глава 11. Танцующий с людьми
В те давние времена, на краю поляны у самого леса, среди развалин пыталась выстоять чья-то баня. Бревенчатые стены перекосило друг относительно друга. Черная крыша почти сгнила. Дверь превратилась в калитку от палисадника. Но внутри сохранилась печка, и на полатях лежало чье-то грязное одеяло. Убежище было крайне убогим и вызывало отвращение. Я еще тогда подумал, что возможно как раз здесь и обитает старик, которого выгнали из заповедника. Но тогда мне было еще не до него.
По последней информации он перебрался в Черноречье и живет теперь там. Или жил там? Возможно, я снова опоздал. В Черноречье я никогда не был. Судя по карте, деревня располагалась достаточно далеко от реки на каком-то небольшом притоке. Я давно вычислил, где этот приток впадает в Сежу, и последние несколько лет порывался повернуть байдарку вверх по течению. Но весной всегда некогда, а летом протока становится непроходимой.
Я решил начать поиски старика с Пижны, и если не получится, тогда отправиться в незнакомое мне Черноречье. В случае полного отсутствия легендарного старика попробую подобрать вид на жительство самостоятельно и бомжевать без теоретического обоснования. Сежа и леса, вдоль неё, тянули меня как магнит с восьмого класса. И вот теперь случилось чудо – магнитная сила вырвала меня из паутины обстоятельств, и я еще не старик.
Обойдя поляну вдоль берега, чтобы полюбоваться текущей водой, я вышел к двум сохранившимся в ложбине домам. Первый дом, стоявший ближе всего к реке, имел баню, забор, небольшой огород и какие-то еще хозяйственные постройки. Второй дом был ничем не отягощен. Я понял – егерей нужно искать именно там, и направился к нему. У дома мужчина в свитере посредством топора пытал старый пень, выбивая из него дрова. Занятие само по себе было постыдное в силу изначальной бестолковости. Но и мужчина, видимо, не слишком старался, так как не вспотел даже в свитере. Мое появление было совсем некстати – онанировать лучше без свидетелей, а тут я нарисовался.
– Здравствуйте, Саша, – сказал я, почти уверенный, что не ошибся.
– Откуда вы меня знаете? – спросил он с неприметной неприязнью, после того как буркнул что-то нечленораздельное в ответ на мое приветствие.
– Я как-то тебе привет от Кэпа передавал, когда еще с детьми летом на байдарке плавал.
– Меня действительно зовут Саша. Только я не знаю никакого Кэпа.
– Давно это было, – согласился я. – Может ни Кэп, а Краб? А может Каптейн? Каптейн из Покровского?! Мы мимо пляжа проплывали – вот он и попросил передать привет егерю Саше из Пижны. Я обещал.
– И что? – хмуро поинтересовался Саша. – Передали?
– Передал. Даже не сомневайся! Меня еще жена спрашивала: «Как же мы этого Сашу в Пижне искать будем?». А я объяснял, что пристанем к берегу, и я схожу в контору: передам привет. Во всяком случае, я так и собирался сделать. Если я кому-то дал слово, да еще и в пути…
– И что? – снова промычал Саша.
– Да ничего. Как зашли на поворот на Пижну, почти лоб в лоб столкнулись. Сидит в лодке под берегом мужик и поплавком рыбу ловит. Борода как у тебя, вид городской, в смысле – интеллигентный. И свитер, как у Хемингуэя. Спрашиваю: «Вы, Саша?». «Да», – говорит. «Вам привет от Кэпа». Моя жена еще подивилась точности попадания привета в цель.
– И что? – снова потребовал уточнений Саша.
– Сеанс связи произошел успешно. Твой аватар в прошлом покивал в знак благодарности и от привета не отказался. Видимо, ты все-таки знал Кэпа из Покровского? Мне почему-то показалось, что вы служили вместе: возраст был примерно одинаковый.
– Я, вообще, никого из Покровского не знаю. Может это был не я? – возразил Александр. – Вон в соседнем доме егерь с женой живут – может он? Его тоже Александром зовут. И борода у него имеется… Да, тут у всех – борода! Правда, он лет на двадцать меня старше… Может тебе к нему? А борода то, какого цвета была?
– Черная, как у тебя, только тогда без седины, – я был уже не рад, что сразу не представился обычным способом. «Просто Дарвин. Чарльз Дарвин», – я уже заметил, что люди начитанные реагируют на это оптимистично, а люди неначитанные чувствуют в этом имени что-то знакомое и тоже начинают к тебе относиться с теплотой.
– Тогда не подходит, – сделал вывод Саша, – у бывшего лесника борода седая всегда и окладистая как у Льва Толстого.
– Еще кандидатуры имеются? – спросил я язвительно.
– Нет. Кандидатур больше нет, – с грустью заключил Саша. – Видимо, все-таки это был я… – протянул он, и глаза его впервые заискрились. – Но Покровское…?
– Да, при чем тут Покровское! – не выдержал я. – В Пыре нет речки, поэтому по выходным все местные ездят на ближайшие сельские пляжи: Кобылово, Покровское, Взавод… Когда проплываешь мимо такого пляжа, пытаешься провести байдарку как можно дальше, по противоположному берегу. Чтобы случайно веслом по уху какому-нибудь бездельнику не врезать. Я всю жизнь удивляюсь, как люди умудряются отдыхать, предварительно не устав? Проплывающая мимо байдарка для них просто праздник, развлекуха. Подплыть, поднырнуть, уцепиться, попытаться забраться, схватить и задержать. Детишки и, почему-то, женщины на берегу просят взять с собой. Для меня это тоже вопрос – почему женщины? И всегда такая тоска в голосе! Не хватает романтики, или мужики, что на берегу, уже надоели? А твой Кэп обстоятельно расспросил: откуда и куда мы плывем, и только после этого передал тебе привет. Конечно он немного понтился перед своей компанией: мол, я тут всех знаю. Может, они из Пыры были, а может и из Горгорода?
– Ну, это совсем другое дело, – облегченно выдохнул Саша и расправил плечи от груза воспоминаний, – это мог быть кто угодно. Тут такое количество народа на охоту приезжает – всех и не упомнишь. В основном из города. У нас охотхозяйство не местное: мы принадлежим оборонному заводу. А ты- то здесь, какими судьбами? Весенняя охота уже закончилась… Или… ты снова с приветом?
– Давай я тебе с пнем помогу? – ушел я от прямого ответа. – Меня зовут Андрей.
– Очень приятно, Андрей, – он протянул мне свою руку. – Это, каким же образом? Я про пень.
– У тебя двуручная пила «дружба» есть?
– Есть.
– Давай.
Пока Саша в поисках «дружбы» гремел инструментом в сенях, я обошел все строение и обнаружил позади дома просто гигантскую… поленницу колотых березовых дров. Но я решил промолчать и исподволь разузнать о тайном смысле мазохистского пня.
Сначала мы отпилили от пня все лапы, руки, ноги, щупальца и остаток центрального корня. Это было не просто – зубья пилы скатывались по твердым округлым чреслам. Каждый новый запил давался с большим трудом. Наконец, пень стал почти лысым, как ежик. И мы принялись распиливать его на блины. Комлевая древесина была настолько прочной, что Саше пришлось снять свитер.
– Александр, в чем конечная цель наших мучений? – спросил я, с трудом восстанавливая дыхание, после первого не распиленного до конца блина.
– Конечная цель – порядок, – торжественно объявил Саша тоже запыхавшимся голосом.
– Жаль. Я думал, что наша цель – устать. И мы с ней уже успешно справились.
– Я решил, что если с этим пнем не расправиться, он переживет всех нас. И так же будет захламлять мир вокруг нас после нашего ухода.
– «Танцующий с волками»?
– Точно, – неожиданно понял меня Саша и даже вздрогнул от этой неожиданности.
– Уважаю, – без тени иронии сказал я, – можешь на меня рассчитывать. Я сам фильм почти не помню. Но сцена, когда Кевин Костнер приезжает на бивак и начинает наводить там порядок… засела в памяти как абсолютное правило – что должно делать Человеку в такой ситуации. Преобразовывать Пространство!
Еще часа два мы окультуривали пень. В антрактах мы разводили пиле зубы, пытались их затачивать, но пню было все равно – он стремился остаться диким, но целым. Работа была настолько тяжелая, что мы почти не разговаривали – берегли силы для очередного рывка на себя.
– Знаешь, – первым делом сказал Саша, как только мы закончили последний распил, – раньше в Пижне была специальная профессия – взрыватель пней.
– В каком году вышел фильм? – угрюмо поинтересовался я. – Неужели я такой старый?
– Да нет, – успокоил меня Саша, – в те времена, когда в Пижне загнулся лесхоз, ты еще почти не родился. Сначала свели лес в округе, а потом стали взрывать пни и вытапливать из них смолу. Смолой заполняли бочки и отправляли их дальше. Представляешь, в Пижне даже существовал цех по производству этих самых бочек! И не смотри на меня так. Это мне все лесник дядя Саша рассказал, – Саша кивнул в сторону соседнего дома, – он родом из Пижны.