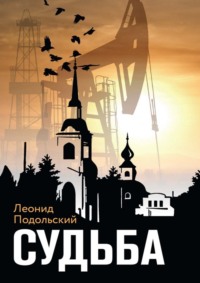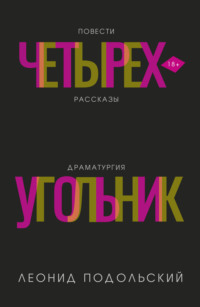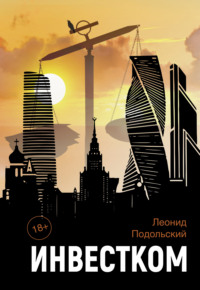Полная версия
Распад
Последней надеждой оставался Постников. Но Евгений Александрович был болен – температура и давление, – подавлен, мрачен, что-то у него самого не ладилось в Академии и, вопреки ожиданиям, анонимка произвела на него сильнейшее впечатление. Может быть, и не анонимка даже, а начинавшаяся кампания и известие о предполагаемой комиссии. Ему ведь сразу обо всём сообщили недоброжелатели. Как бы там ни было, он вызвал Евгению Марковну к себе домой. Евгений Александрович лежал с компрессом на голове, был бледен, печален и жалок – быть может, даже нарочно сделал компресс, чтобы пресечь её возражения, – и очень деликатно и вежливо, словно через силу, попросил Евгению Марковну саму отказаться от должности заместителя директора. Он сделал уже всё, что мог. Всё равно её никогда не утвердят в Академии. Не нужно было ей ссориться с Чудновским… Постников, похоже, боялся за себя.
Евгения Марковна всё же попыталась возмутиться. Ведь это же всё ложь – по поводу каждой её командировки есть отчёт, в нём отмечено, какую огромную работу она провела, все расписано буквально по минутам. И сотрудники её ездили за границу не просто так, а по плану, утверждённому в Академии, и на это тоже есть отчеты и решения ученого совета, единогласно, между прочим, утвердившего эти отчёты. А что касается внедрения, так Евгений Александрович прекрасно знает суть. Бумаги застряли где-то в главке, промышленность оказалась к внедрению не готова, внешторг вовремя не закупил полуфабрикаты и станки, кто-то в министерстве не выделил валюту – обычное головотяпство. Да и потом, история это давняя, а она исполняет обязанности всего два года. Чудновский в своё время тоже ничего не сделал. Так при чём же здесь она? И насчёт её теории полная передержка. Теорию никто не опровергал, она вошла в качестве составного элемента в более широкую концепцию, и Евгения Марковна давно уже с этим согласилась. И переоборудование своего отдела осуществляла строго по плану и с его, Евгения Александровича, полного согласия. Тут Постников сморщился, будто от зубной боли. А уж за публикацию статей или утверждение диссертаций в ВАКе и вовсе не она отвечает. Так в чём же её можно обвинить? Задача в другом – выявить пасквилянта. Он же не только над ней, слабой женщиной, измывается, а над Институтом, даже над институтами. Возьмите, к примеру, соседний Институт терапии, или Институт хирургии… Да хоть Институт философии…
Но Евгений Александрович только покачал головой, только посмотрел на Евгению Марковну мудрым и скорбным взглядом…
– Ну при чём здесь институты? – со вздохом спросил он. – Вы прекрасно знаете, что если комиссия станет искать, недостатки обязательно найдутся. Не могут не найтись. И вы, Евгения Марковна, окажетесь стрелочницей. Тем более, самолётное дело27. С него всё пошло. Так не лучше ли упредить и сославшись на здоровье, выйти в отставку. Отдел-то ведь вам оставят, Чудновский обещал поддержку… Он, между прочим, вполне лояльный человек… И Головин, я думаю, тоже не откажет. Поезжайте, отдохните. А за это время всё забудется, и вы сможете, вернувшись, больше времени уделять своему отделу. Дела там у вас и в самом деле не очень хороши…
Евгений Александрович был, конечно, прав. Он спокойно и доброжелательно оставался в тени, пока активная Евгения Марковна ломала себе шею, а сейчас торопился избавиться от нее. С годами инстинкт самосохранения становился в Постникове всё сильнее…
ГЛАВА 9
– Кто же это мог быть? – снова спросила себя Евгения Mapковна, как спрашивала уже сотни раз за эти пробежавшие, промелькнувшие годы. Но ответа никогда не находилось. Это ненавидящее, ненавидимое лицо с сатанинским всевидящим взором – она бы, казалось, сразу его узнала – безнадёжно терялось среди лиц врагов и недоброжелателей, а их было множество: одних профессор Маевская когда-то критиковала, другим – не давала дорогу, третьих – не поддержала в свою бытность заместителем директора, у четвертых – отнимала оборудование, или ставки, а с кем-то сталкивалась по мелочам. Но ведь существовали ещё и просто завистники…
Нет, не мог написать анонимку ни могущественный Чудновский – он был слишком большой человек, чтобы пасть так низко. Чудновский её, конечно, ненавидел, но ведь ни разу не использовал своё положение. Пока…
Не мог и выживший из ума Шухов – тот давно гнил в скорлупе своей отрешённости, погружённый в воспоминания о прошлом. Неумолимое время убило в нём все страсти, иссушило телесную оболочку, погасило пристальный, подозрительный взгляд. Проходя мимо Евгении Марковны, он не видел её, в маразме Шухов иногда призраком бродил по коридорам, не мог найти свой кабинет, бормотал что-то бессвязно.
Ройтбак, конечно, имел все основания ненавидеть профессора Маевскую. Никто ещё так не мешал ему, как она, не лишал его аппаратуры и ставок, потому что ненависть их была взаимной. Евгения Марковна не могла забыть его ядовитых замечаний и шуток. Впрочем, тут и ещё – к Ройтбаку ушел один из её сотрудников. К тому же Евгения Марковна завидовала, потому что Ройтбак был настоящим учёным. Не хотелось ей в этом сознаваться, и она долго обманывала себя, но всё-таки приходилось признать – не только ей завидовали, и она завидовала тоже.
Было время, Вилен Яковлевич жаловался на неё в Академию, выступал с критикой и протестами. Он и не скрывал свою нелюбовь, презрительно отзывался о ней и о её теории, но всё делал в открытую. Да и не мог он написать эту фразу насчёт Вены…
Женя Кравченко – тот отпадал сразу.
Пожалуй, больше всех знал про Евгению Марковну Юрий Борисович. Ему было известно и про Женю Кравченко, и про Лену Анисимову, и про очень многое ещё. В сущности, обо всем. Моисеев очень многое мог бы написать, пожалуй, не хуже, чем аноним, но для него это было бы самоубийством. Он совсем не заинтересован в крушении Евгении Марковны. И никто другой из отдела… Игорь Белогородский? Этот, пожалуй, мог бы, но в то время он ещё надеялся… Не было ему никакой корысти. Скорее, у её сотрудников могли быть друзья, которые тоже немало знали…
И вдруг, в этот мерзкий, сырой и холодный апрельский вечер, в тот самый миг, когда часы на кухне пробили полночь («Вот сейчас войдут и перережут горло», – неожиданный испуг переходил в озноб) – молния вспыхнула и погасла, выхватив из прошлого маленький, тут же рассыпавшийся кусочек жизни, и это ненавистное, спокойное, самодовольное лицо.
– Неужели? Нет, не может быть, – тихо вскрикнула Евгения Марковна.
Наваждение исчезло, но тотчас появилось снова. Юра Аринкин с ангельской улыбкой на лице и голубыми незамутнёнными глазами – это был, несомненно, он, и никто другой! Как же она раньше не сообразила? Даже никогда не подумала о нём…
…Несколько лет назад на партбюро Евгения Марковна выступила против приема Юры в партию. Она, конечно, была совершенно права. Юра был первостатейный халтурщик, наглец и бездельник. Даже кандидатский минимум пришёл сдавать ни разу не раскрыв учебник. Надеялся на общее своё развитие, на красноречие, умение не смущаться, но главное, конечно, на снисходительность экзаменаторов и имя своего отца. Однако на сей раз он просчитался. Евгения Марковна возмутилась и выгнала его с экзамена. Не надо было этого делать, но ведь и у нее есть характер и самолюбие, и не могла она уронить своё достоинство перед всеми. В тот же вечер Евгении Марковне позвонил Аринкин-старший. Едва скрывая возмущение, профессор Аринкин попросил назначить пересдачу. Увы, на этот раз Евгения Марковна характер не проявила. Она уже и так раскаивалась. Врагов у неё хватало и без Аринкина, а Николай Юрьевич был членом учёного совета Института и членом ВАКа. К тому же, когда-то он выступал оппонентом на её защите.
На следующий день Юра снова явился к ней в кабинет, так и не раскрыв учебник. Да и ни к чему. Экзаменатором теперь выступал он, заранее зная, что Евгения Марковна не выдержит свой экзамен. И она не выдержала – не стала спрашивать, и поставила ему четверку.
Год спустя профессор Маевская выступала Юриным оппонентом, не очень углубляясь в его диссертацию (Юра предусмотрительно всучил ей текст рецензии), она легко обнаружила совершенно явную халтуру, и обширные заимствования в обзоре литературы. Не сдержавшись, прямо сказала об этом Юре. Разговор был вполне доверительный, тет-а-тет, и Юра не стал отпираться:
– Евгения Марковна, какое это имеет значение? Вы ведь знаете, что в нашей стране диссертации делаются для диссертаций. Так какая разница, чуть лучше, чуть хуже? Вот, когда получу самостоятельность, тогда и проявлю себя.
Видно, Юра считал Евгению Марковну своей сообщницей. Да так, собственно, оно и было, они ведь были связаны с профессором Аринкиным круговой порукой – взаимным оппонированием и рецензированием. К тому же, Аринкин-старший заботился о выходящих от Маевской диссертациях в ВАКе и потому Евгения Марковна не стала возражать Юре, хоть это и было нарушением неписаной научной этики: обсуждая диссертации, всегда критиковать именно и только частности, в то время, когда главный вопрос «а зачем это вообще нужно?» был молчаливо объявлен вне закона. Впрочем, она и сама не очень-то считалась с этой охранительной профессорской этикой, хотя обычно и соблюдала табу. Тут – другое её покоробило. С высокомерным самомнением, уничтожая других (надо признать, однако, что Юрин руководитель Семёнов и в самом деле немногого стоил), Юра сам ничего не умел и не хотел как следует делать, то есть, что бы он ни воображал, и не говорил о себе, но принадлежал-то он к весьма многочисленной в родимом Отечестве породе бездельников, привыкших уютно жить, прячась за объективными обстоятельствами. Они, эти бездельники, до противного ленивы и неумелы, но не работают якобы не из-за лени, а из принципа, потому что для них не созданы условия. Но втайне они даже рады, что нет никаких условий и что все устроено не так, как надо – это служит отличным самооправданием. И ради этого самооправдания они громче всех кричат, требуют, становятся в позу, предлагают различные прожекты, потихоньку поругивают начальство, а оно, как правило, и в самом деле бестолково и бездарно, или шепотом, исключительно шепотом, валят всё на систему и похваливают западную предприимчивость, словом, фрондируют в узком или семейном кругу. Но стоит только кому-то попытаться что-то по-настоящему изменить и перестроить, они первыми начинают сопротивляться, и сразу же отыщут тысячи убедительнейших аргументов, почему это невозможно. А невозможно (по их, естественно, мнению) это, во-первых, потому, что не от них исходит, они-то свое проворчали и промолчали, им и обидно; а, во-вторых, им и так уютно и, в сущности, их и так все устраивает, только дали бы потихоньку ворчать и не работать.
В массе своей это вполне приспособленные бездельники, знающие, где и что можно сказать, как создать видимость работы, и даже умеющие при случае показать своё общественное лицо, а потому очень нередко они идут в общественные деятели, и только если уж характер совсем скверный или обстоятельства особенные, оказываются сутягами или конфликтными правдоискателями. Потому что, если застой и придавленность – вырождаются все: и люди системы, и критики.
Вот этот, фрондирующий исподтишка вариант общественного деятеля и был Юра. Успешно защитив диссертацию, он с прежней самоуверенностью поругивал систему и готовился дальше делать карьеру. Но ему не повезло. Аринкин старший внезапно умер, и Юра застрял в мэнээсах. Работать ему не хотелось, ежедневный рутинный труд нагонял тоску, и он, спокойно пописывая статейки, перелицовывая один и тот же материал, отличался лишь изредка на философских семинарах и, как и следовало предполагать, со временем подался в профсоюзные вожаки – пролез в местком, и не просто пролез, но ведал распределением путевок.
Вот тут-то с ним снова столкнулась Евгения Марковна. В лаборатории Семёнова был объявлен конкурс на должность старшего научного сотрудника. Кандидатов оказалось двое – Юра и Пётр Николаевич Нефёдов, из другого института, а председателем конкурсной комиссии как раз профессор Маевская. Достоинства кандидатов явно были не равны. Нефёдов – серьезный ученый, отличный методист и обладатель почти готовой докторской, так что другой на месте Юры отказался бы от борьбы и благородно отошёл в сторону. Но – не Юра. Юра, наоборот, бросил на чашу весов старые отцовские связи, месткомовские заслуги и демагогию местного патриотизма, так что на предварительном заседании конкурсной комиссии голоса разделились поровну. Голос Евгении Марковны становился решающим, и она, хоть многие её и осуждали (впрочем, осуждали бы в любом случае) на сей раз проявила принципиальность. Её не переубедили ни звонки бывших учеников профессора Аринкина, ныне ставших профессорами и завлабами, ни напоминания, что Николай Юрьевич выступал когда-то её оппонентом, ни даже уговоры нынешнего Юриного руководителя Семёнова – испугался он, что ли, сильного Нефёдова в своей лаборатории? Скорее все эти звонки и напоминания возымели обратный эффект: Евгения Марковна терпеть не могла, когда на неё пытались оказать давление. Однако, и это ещё не всё. Накануне решающего заседания Юра самолично решился прийти к ней домой с цветами и с хрустальной вазой, однако Евгения Марковна даже не стала его слушать. Цветы, правда, взяла, но разговаривала сухо и жестко.
– Я в вас не верю. Мне кажется, вы неудачно выбрали профессию. В философии или истории вы бы добились большего. Там ведь, главным образом, важны слова.
Юра дёрнулся, словно от пощечины, голова ушла в плечи, и во всей его фигуре появилось что-то жалкое.
– Если бы был жив отец, вы бы так со мной не разговаривали, – в голосе Юры ей послышалась тайная угроза.
О, да, да, за ней был долг, и она могла бы это сделать для него, но только нарушив другой долг, более важный. Тут нужно было сразу поставить Юру на место. Он не имел права требовать. Евгения Марковна холодно выпроводила его в коридор. Юре пора было уходить, но он всё топтался, будто что-то ещё хотел, но не решался сказать. И вдруг, решившись, с какой-то затаённой угрозой – только в этот момент смелость изменила ему, и он пробормотал почти невнятно, со странненькой ехидненькой улыбочкой: «Помышление сердца человеческого – зло от юности его» и исчез. Что он этим хотел сказать? Может, намекал на Бессеменова, на свою осведомленность? Но откуда он мог знать? Только одно было ясно, что ушёл он врагом, и что в словах его таилась угроза. И уже оттого, что он посмел угрожать, пусть даже каким-то очень странным и непонятным образом, Евгения Марковна испытывала против него раздражение. Оттого и выступила на партбюро. Впрочем, каковы бы ни были её мотивы, она была права. Не место таким, как он, в партии.
Но вот, что странно. Стоило Евгении Марковне выступить против Юры, как вся злость вытекла из нее, будто вода из дырявого сосуда. И в ней не осталось ничего, так что даже не вспомнила о нём ни разу после анонимки… Впрочем, вспоминала, но Юра позаботился об алиби. Как раз в это время он ездил в турпоездку за границу.
– Да, да, это он, – шепчет Евгения Марковна. И тут же зябкий холодок проникает в неё, а волосы начинают шевелиться. Ибо одно ей до сих пор непонятно. Ведь он не только факты, он и мысли её описал. Откуда же он мог знать? Неужели потому, что они похожи? Неужели и она такая?
– Как же он меня ненавидит, – цедит сквозь зубы Евгения Марковна. – И за что, за что? Ведь я же сказала правду. Вот за правду и ненавидит. Но, главное – он один? Или кто-то за ним стоит?..
ГЛАВА 10
С приходом Чудновского жизнь в Институте решительно изменилась. В первой своей речи, тронной, как называли её сотрудники, он заговорил об ускорении и перестройке, и сразу же поставил перед Институтом такие грандиозные задачи: выход на уровень лучших мировых достижений, а затем и опережение, развитие международного сотрудничеств, новое мышление, осуществление комплексной научно-практической программы «Здоровье», разработка новых препаратов и новых методов исследования, не хуже, чем за границей, повышение ответственности сотрудников за конечный результат работы, внедрение хозрасчета, и многое, многое ещё – о каких недавно не только думать, но и мечтать было нельзя.
Выступление Чудновского встречено было бурными продолжительными аплодисментами. Но… не он первый говорил хорошие слова, немало и до него бывало на сцене прожектеров, немало звучало лозунгов, не ему первому, отбивая ладони, аплодировали, однако ничего не менялось, и мало кто верил, что можно действительно что-то изменить. Знали, конечно, что сейчас плохо, и что менять нужно, но, если честно, мало кому хотелось что-то менять. Давно привыкли, обленились и приспособились, да и не мыслили иную жизнь. Если птицам с детства подрезать крылья, можно ли их потом научить летать? Конечно, открывались перспективы, но – как ласточки в небесах, надёжней и спокойнее казалось жить по-старому. Никто вроде бы не возражал, аплодировали и соглашались, однако особого энтузиазма не наблюдалось. Скорее глухая, молчаливая, напуганная оппозиция. Встречались, правда, и энтузиасты, особенно среди молодежи – этим дерзать и расти, да и крылья ещё отрасти могут, к тому же, не Чудновский ли расчистит им место. Но и они пока помалкивали, ждали, боялись выскочить раньше времени. Правда, на трибуну выходя, а выходили, как и прежде, старики, тёртые-перетёртые, высказывались все за перестройку и ускорение, и лозунги вывесили соответствующие, и стенгазету – говорили и писали в согласии с начальством, как всегда, но втайне надеялись – пронесёт. Не первая была кампания, не в первый раз одобряли и поддерживали, а, одобрив и поддержав, тут же в кулуарах, шёпотом, травили анекдоты. Да и как без анекдотов? Перестройка ещё не началась, ещё только произносили речи, осваивали новую терминологию, а отдел снабжения вырос уже вдвое. Попытались внедрить в производство препарат, но оказалась неготовой производственная база, да и бумаги снова, в который раз, застряли в бесчисленных колёсах четырнадцати нужных ведомств. А пока пробивали, вытаскивали колёса, выяснили ненароком – устарел. Словом, забуксовали сразу. Ещё вперёд не сдвинулись, а пора давать задний ход.
И всё-таки что-то произошло, какое-то незаметное, непонятное движение. Вирус – не вирус завёлся в воздухе, но что-то неуловимо сдвинулось, шевельнулось в столетнем царстве застоя, и, хоть колючий шиповник и не превратился в розы, но даже там, где десятки лет, как в стоячем омуте, жизнь текла без всяких перемен, заворчали и задвигались старики-заведующие, разбуженные в своих уютных гнездах. Ну, а молодые, да и средних лет, те даже ходить стали быстрее, и, встречаясь в коридорах, теперь на ходу обменивались новостями, а больше слухами, вместо того, чтобы как раньше, часами стоять на лестничных клетках в клубах дыма.
Впрочем, на лестничных клетках вообще больше не курили, потому что перестройка в институте началась с борьбы с курением. «Табак – зло. Нельзя, чтобы рабочее время уходило в сигаретный дым», – решительно, хоть и вскользь, обронил Чудновский, он вообще всё делал вскользь, бегом, разрывался между Институтом и своим Очень Важным Управлением. И тотчас же собралось партбюро, прозаседали часа четыре и решили – разрешить курить лишь с двух часов дня, и не на лестничных клетках – позор, антисанитария -, а только в одной единственной специально приспособленной курилке. Общественность, естественно, тотчас поддержала, особенно некурящая – не всё же простаивать с сигаретами, когда-нибудь и работать надо. И тут же, во главе с Лаврентьевым, составили общество некурящих, куда для числа, а также ввиду одобрения начальства, стали вступать и курящие. Но вот незадача – курящие сотрудники теперь с утра поглядывали на часы, нервничали, работа у них не клеилась, а часам к одиннадцати-двенадцати у единственной курилки выстраивалась очередь. Правда, некурящие теперь окончательно бросили, и даже не пытались начинать, зато курильщики, отстояв очередь и заняв место, спешили наглотаться дыма впрок. И так глотали, что кое-кто попал в больницу, а кто-то один даже умер. Наверное, умирали и раньше, но теперь в Институте наступила гласность, и потому об этом случае узнали все.
Но это был только первый эксперимент. Вслед за ним решительно взялись за дисциплину28, так что вскоре по инициативе некоей анонимной общественности – Чудновский ли тут был виновен, или извратить и скомпрометировать хотели, так и осталось неизвестным – специальная комиссия расхаживала теперь по Институту, проверяя, сидят ли сотрудники на местах, и всех подряд хватали в коридорах. Эффект проверки оказался поразительный. В первый же день три главные активистки – бельёвщица, санитарка и вахтерша, торжествуя, как над классовым врагом, задержали сто тридцать пять опоздавших сотрудников, и еще пятьдесят поймали в коридорах. На второй день количество опоздавших сократилось вдвое, а на третий, кроме шести десятков, выбывших на больничный, все оказались вовремя на своих местах.
Однако, другие начинания не стали столь же успешными. С целью повышения производительности труда и беспощадной борьбы с бюрократизмом, решили до двух часов дня отключать телефоны, а корреспонденцию уменьшить вдвое. Но, несмотря на расширение штата контролёров, количество писем и приказов только возросло. Что же касается телефонов, то теперь, чтобы компенсировать утреннее молчание, пришлось на восемьдесят процентов увеличить количество номеров. А потом кто-то сверху сыграл отбой, и новые инициативы начали потихоньку выдыхаться. В институтском вестибюле снова открылся табачный киоск – план. На месте лозунга «Курить – здоровью вредить!» вывесили новый, слегка забытый и переиначенный: «Достижения науки – в практику!». Телефоны опять затрезвонили с самого утра, показатели переписки, в соответствии с планом, опять росли, а сотрудники численно выросшего и ещё более укрепившегося аппарата по-прежнему распивали чаи, правда, по большей части сидя теперь в новых креслах. Словом, перестройка заканчивалась, всё возвращалось на круги своя, и многие, и Евгения Марковна в их числе (увы, она сама сознавала, что со временем её неумолимо уносило в стан консерваторов и она уже тайно ухмылялась, видя, как всё возвращается к прежнему; и только одно было ей теперь нужно – чтобы всё оставалось, как было; хотелось, конечно, жить долго, но, дай Бог, не дожить бы до перемен) – да, многие готовы были испустить вздох облегчения, повторяя вслед за острословом Ройтбаком, что не в ту сторону крутятся ремни, а аппарат в испорченный телефон играет. Вспоминали старое: «Лес рубят, щепки летят», наблюдали, не без злорадства, как громадная, неуклюжая, безмозглая машина (тысячи крутящихся в разные стороны, буксующих, устрашающе скрежещущих колёс), уже начинала притормаживать, сползая к прежнему, холостому ходу. И вот тут-то, к замешательству старой гвардии, распространился новый слух: Лаврентьева снимают. Этому вначале не поверили. Уже и до него во множестве бывали слухи – то о создании новых лабораторий, то назывались фамилии старых профессоров, которых Чудновский чуть ли не завтра собирался отправить на пенсию. Слухи то возникали, то исчезали, а неопределенность и возбуждение всё росли. Тут не до Лаврентьева. Да и кто такой Лаврентьев? Деликатный, безвредный, бездеятельный зам – удобный, это бесспорно, но не более, чем некая аморфность. Первым чувством даже было: не меня, не нас. Вздох облегчения пронёсся по рядам. Про Лаврентьева рассказывали анекдоты. Припоминали, как совсем недавно он ездил просить Чудновского в директора. Но вскоре дошло: началось. Настоящее, не испорченный телефон. Уже не щепки. Вот тут только и начали жалеть Лаврентьева. Но и жалеть некогда было долго, не до него. Все взоры обратились к новому. Нового не принимали, нового боялись – молча, затаённо, связанные этим неприятием. Тут и Евгения Марковна, и Шухов в одном ряду, но из страха и недоверия боясь объединиться.
И вот он, новый, правая рука Чудновского по Управлению, явился перед ними как Навуходоносор.
Нельзя сказать, чтобы он, этот американец (в своё время Соковцев два года пробыл в Штатах на стажировке), смотрел на них враждебно – вовсе нет. Он, похоже, вообще не видел лиц, не замечал их со своей вавилонской гвардией. Прямой, резкий, с маленькими буравящими глазками, безразличный к традициям и прежним авторитетам, он не скрывал своё желание всё переиначить – и оттого между ним и прежними сразу пролегла стена. Однако ясно было, не он через неё перешагнёт. Это они, склонившись, поодиночке, робко, понесут свои грехи в Каноссу…
Становилось очевидно – прежний Институт при смерти. То есть он жил ещё, как живёт за стенами Старый город, и прежние профессора, встречаясь, не без церемонности кланялись по-прежнему, и ходили на учёные советы, и аспиранты их по-прежнему защищали диссертации, и сами они по-прежнему оставались полновластными хозяевами в своих феодальных ленах, и всё-таки – всё стало не то. Не то уважение, не та, с тайной примесью сочувствия и жалости, почтительность, и на учёном совете не те места. Сами, рефлекторно, кроме гордеца Ройтбака и дурака Семёнова, забивались в тень, в углы, и речи совсем не так произносили – короче, и как-то робко, и реплики с мест теперь не они бросали, а Соковцев, и его, в свитерах и джинсах, бородатая вавилонская гвардия. Их и по фамилиям ещё не знали, но всё равно чувствовалось по манерам, по твёрдой и уверенной поступи, по смеху даже – они хозяева. Трудно стало, невыносимо для годами вскормленного профессорского тщеславия. Собирались по углам, шептались, рассказывали друг другу анекдоты, естественно, об этих новых, и вдруг, взглянув в глаза, замолкали на полуслове…