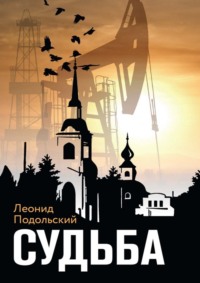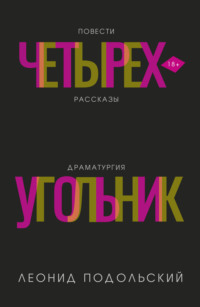Полная версия
Распад
Как бы там ни было, Соковцев относился к Евгении Марковне с плохо скрываемым недоброжелательством и, в свою очередь, насмехался над её работами, называя их не иначе, как чепухой и галиматьёй, а её саму – напыщенной старой курицей. Правда, так же, как и профессор Маевская, он позволял себе подобные высказывания только в узком кругу ближайших приспешников, что, однако, не мешало, в тот же день знать о них всему Институту.
Эти вот филиппики и были единственной формой общения между ними, потому что за первые два года пребывания Соковцева в Институте, они ни разу между собой не разговаривали. Соковцев, если ему что-то требовалось от профессора Маевской, всегда обращался к ней только через секретаршу, а Евгения Марковна демонстративно игнорировала заместителя директора по науке, по всем вопросам обращаясь к ученому секретарю.
Первый разговор с Владимиром Николаевичем состоялся у Евгении Марковны лишь в конце второго года, когда Соковцев пригласил её к себе с отчётом. Он предложил Евгении Марковне сесть, бегло просмотрел отчёт, почти двадцать страниц машинописного текста. Губы его при этом высокомерно кривились, а щека дёргалась от тика, и Евгения Марковна, наблюдая за его мимикой, всё больше наливалась раздражением и злостью.
В кабинете, таком знакомом – ведь Евгения Марковна сама не так давно восседала в нём – всё было теперь совсем иначе. Обширный двухтумбовый стол был чист и пуст, вместо прежних стульев стояли глубокие мягкие кресла, а в книжном шкафу, где раньше стояли произведения классиков марксизма, и годами без дела пылились старые отчёты, папок теперь совсем не было, а вместо них располагались несколько толстых, солидных книг на английском языке, образуя странную компанию с классиками. И даже на стенах вместо диаграмм, изображавших растущее в Институте год от года количество защищённых кандидатских диссертаций (годы, когда это количество уменьшалось, на диаграммах не отображались), висела бёрингеровская схема «Пути метаболизма», электрифицированная карта международных связей Института с городами-лампочками, а на маленьком столе, в углу, красовались разные рекламные проспекты. Даже портреты Боткина и Павлова (их Соковцев не посмел тронуть, со злорадным удовольствием отметила Евгения Марковна), ныне соседствовали с рекламными пейзажами Парижа, Лондона и Чикаго.
– Космополит, – с завистливым неодобрением подумала Евгения Марковна.
…Лет двадцать пять назад, или чуть больше – она работала тогда у Николая Григорьевича – Головин вызвал её к себе, и, плотно затворив двери кабинета, сообщил:
– Завтра будет митинг. Пришло указание срочно осудить Роскина и Клюеву за передачу рукописи в США32. Я тебя прошу выступить. Это тебе зачтется… и потом… ты сумеешь деликатнее, чем другие… – он стоял перед ней, высокий, стройный, красивый, и солнечная дорожка, трепеща мириадами пылинок, тянулась к нему от окна.
– Нет, я не хочу, – Женя капризно надула губы – Это такая мерзость.
Николай чуть-чуть побледнел и съёжился, хотя в кабинете было тепло.
– Конечно, и без тебя найдутся желающие. Но я думал…
– Нет, не хочу… – упрямо повторила Женя. Это было её право – смотреть ему в глаза и говорить то, что думала.
И он, Николай, признал это её право. Он вдруг окончательно сник, устало сгорбился, подошёл к Жене, и взял её руки в свои.
– Ты думаешь, я дрянь? Думаешь, мне это очень нравится? Это ты можешь отказаться, потому что мы здесь с тобой вдвоём, и у нас особые отношения… A мне деваться некуда… Ты пойми… Никогда у меня не было выбора. Человек неволен… раб… – он явно был расстроен чем-то ещё, кроме Клюевой и Роскина. Как потом оказалось, гроза собиралась над его тестем, а значит, и над ним самим…
– Я понимаю… – Женя погладила его голову. – Я тебя ни в чём не виню. Это не ты, это наша собачья жизнь…
Но сейчас, два с половиной десятилетия спустя, профессор Маевская ничего этого вспоминать не хотела, и слово «космополит» звучало для неё ругательно. Во всяком случае, в кабинете у Соковцева, глядя на его нервные, худые, с длинными пальцами руки, она желчно повторяла про себя:
– Космополит, хвастун.
Эти книги на английском в роскошных переплетах, берингеровскую схему и даже виды Чикаго, Лондона и Парижа, он, казалось, выставил нарочно, чтобы доказать ей своё превосходство. И она, почувствовав, как кровь приливает к лицу, подумала с острой завистью и обидой:
– Кэгэбэшник проклятый. Месяцами сидел в Америке, делал там науку, а мы, в свои лучшие годы, дрожали и прятались от мира под павловской шапкой33! И теперь он нас учит.
Владимир Николаевич долистал отчет и нажал на кнопку звонка. В тот же миг в кабинет вошла секретарша.
– Танечка, принеси прошлогодний отчёт профессора Маевской, – Соковцев ехидно улыбнулся. – А можно и позапрошлогодний.
Секретарша так же безмолвно вышла.
– Евгения Марковна, у меня создаётся впечатление, что вы топчетесь на одном месте. К сожалению.
– А вы думаете, Владимир Николаевич, что мы каждый год можем делать по открытию? – не менее ехидно отпарировала Евгения Марковна, очень тонко намекая на неудачу Соковцева в университете, при обсуждении его последнего открытия.
– Ну зачем же. Открытий от вас никто не ждёт. Хоть какой-нибудь выход в практику. Вы, помнится, когда-то критиковали Бессеменова, а теперь копируете его исследования.
– Владимир Николаевич, наука развивается по спирали. Сначала что-то отвергают, потом повторяют на более высоком уровне. Это диалектика.
– Евгения Марковна, я к вам не придираюсь. Но я тоже должен отчитываться перед Евгением Васильевичем. И в Академии. А там люди очень грамотные. – Соковцев подавил свое раздражение, и говорил теперь устало, и даже как будто благожелательно. Раздражение Евгении Марковны тоже начинало остывать.
– У нас восемь публикаций за год в центральных журналах. Мы ведем три важные международные темы. В будущем году планируется защита сразу трёх кандидатских, – Евгения Марковна уверенно загибала пальцы.
– Ну что же, спасибо, – Соковцев устало поднялся. – И все-таки главное – выход в практику. Помнится, вы когда-то даже лозунг подобный выдвинули.
– Да, конечно, – согласилась Евгения Марковна. – Она уже торжествовала про себя, потому что ясно дала понять Соковцеву, что голыми руками её не взять. А что касается выхода в практику, то не сам ли Соковцев несколько дней назад заявил на учёном совете: «У нас академический Институт и мы должны отдавать приоритет фундаментальным исследованиям». Пусть докажет теперь, что у неё в отделе исследования не фундаментальные.
После этого разговора Евгения Марковна вышла странно успокоенная. Даже раздражение против Соковцева значительно ослабело, словно в душе у неё открылся какой-то клапан. К тому же, теперь она была уверена, что сумеет дать Соковцеву отпор, и он больше не казался таким опасным, как раньше. Да Соковцев ничего и не предпринимал. Держался, правда, по-прежнему холодно, но вполне спокойно, как-то даже поздравил с праздником при встрече. Словом, эмоций после этого разговора стало меньше, и Евгения Марковна начинала привыкать к их сосуществованию. Так бывает, когда загипнотизированный цыплёнок, ничего не подозревая и весело попискивая, приближается к пасти змея. Но это сравнение пришло ей на ум значительно позже, лишь после апробации диссертации Люды Гореловой. А на самой апробации до поры Евгения Марковна была поразительно спокойна. Пожалуй, немного удивилась приходу Соковцева и его банды (именно это слово Евгения Марковна и произнесла про себя), но, странно, совсем не почувствовала беспокойства. Формально Соковцев обязан был прийти, хотя никогда не приходил раньше, и у неё по наивности шевельнулась мысль, уж не хочет ли он, наконец-то, наладить отношения. И только когда Люда закончила выступление, и вся эта банда обрушила на неё целый град каверзных вопросов, Евгения Марковна очнулась и поняла, что вот, начинается война, а она была слишком благодушна и совсем не приготовилась к отпору. Между тем, они свой удар наносили по-гроссмейстерски, и предугадать все их домашние заготовки не было никакой возможности. К тому же это была лишь артподготовка, настоящий бой разгорится в прениях. Особенно неистовствовали Агнивцев и другой соковцевский клеврет, Розенкранц. Эти вообще не о диссертации говорили, а били прямой наводкой по работе отдела и в первую очередь по теории профессора Маевской, вернее, по тому, что от ее теории оставалось.
Люда сражалась мужественно, и даже осторожно наносила встречные удары, но силы оказались слишком неравны и, несмотря на неоднократные вмешательства в дискуссию самой Евгении Марковны, к окончанию апробации совершенно потерявшей голос, Люда медленно тонула, как тонет, не сдаваясь, окружённый со всех сторон вражеской эскадрой героический корабль, пока они не отыскали слабину, и не ударили ниже ватерлинии, напирая на методические ошибки, и тогда она сразу захлебнулась.
Наконец, Соковцев, на правах заместителя директора Института, прекратил это избиение.
– Совершенно ясно, – заявил он, – что диссертация методически слабая, содержит много недоделок и неточностей и нуждается в существенной доработке. Хочу надеяться, – Соковцев возвысил голос, потому что Евгення Марковна рванулась ему навстречу и прерывающимся голосом крикнула «неправда», – хочу надеяться, – повторил он снова, – что руководитель работы и диссертант сделают необходимые выводы.
– Это форменное хулиганство, – крикнула Евгения Марковна. – Я за каждое слово диссертации могу поручиться!
В наступившей тишине она услышала смех Агнивцева – или это только галлюцинация была? Но потом, вспоминая, она всё время представляла ироническую улыбку на его мальчишеском лице. А тогда такая жгучая волна ярости захлестнула Евгению Марковну, что она перестала видеть окружающее. Впрочем, длилось это только миг, потому что до неё тут же дошли слова Соковцева:
– Евгения Марковна, решение принято. Пусть люди идут работать.
Но работать в тот день не пришлось. Возбужденные сотрудники собрались в кабинете у Евгении Марковны.
– Ну, что вы на это скажете? – Евгения Марковна обвела взглядом подчинённых. Все они, Андрей Тарасевич, Володя Веселов, Володя Сладков, Лариса, Нина, Витя Потапов, Игорь Белогородский, Юрий Борисович сидели перед ней, чуть ли не касаясь друг друга, потому что в кабинете было тесно, и с напряжённым ожиданием смотрели на неё.
– Это форменный бандитизм. Вам надо пойти к Чудновскому, – неуверенно и робко, как всегда, сказал Юрий Борисович.
– Почему же вы там молчали? – едва не взорвалась Евгения Марковна. – Ведь вы же старший научный сотрудник. Вы обязаны были выступить…
Но она не взорвалась. Нельзя было сейчас взрываться…
– Предатели… Все они предатели… – но это она сейчас, в своей тёмной, вдовьей комнате шепчет едва слышно. А тогда, как ни глупо, как ни странно, она всё ещё верила им, хоть и сердилась за их молчание. Впрочем, теперь они не молчали, а возмущались и обещали сражаться до конца. И больше всех – Володя Веселов. Через месяц ему предстояла апробация. Кажется, Игорь Белогородский тогда молча сидел в своем углу, а может быть, и ещё кто-то? Это теперь уже не припомнить, да и стоит ли припоминать? Разве слова их имели значение? Разве не так же на любом собрании все голосуют единодушно, тянут руки и таят мысли? Так чего же было ждать от них?
Но она, как ни странно, поверила. И решила бороться до конца, немедленно идти к Чудновскому. Но вот ведь, она ещё только собиралась идти к Чудновскому, а они уже готовились бежать. Притаились, и ждали своего часа…
Стоило случиться лишь первому толчку и в монолите пролегли трещины…
Но существовал ли когда-нибудь монолит?..
Распад… Не был ли он заложен в самой идее?
На прием к Чудновскому профессор Маевская попала только две недели спустя.
– Евгений Васильевич, я пришла к вам искать защиты. Нам сознательно не дают работать. Меня и моих сотрудников обвиняют в научной нечестности. Вот уже почти три года, как мы не получали ни одного прибора. Наши заявки даже не рассматриваются. Я прошу создать комиссию и разобраться.
В том, что Чудновский не станет создавать никакую комиссию, Евгения Марковна не сомневалась. Это было бы пятно не только на репутации профессора Маевской, но и всего Института. К тому же, что может сделать комиссия? Проверить эксперименты Люды Гореловой? Но дневники и журналы у неё в порядке. Евгения Марковна всегда следила за этим. А проверить результаты – это всё равно, что выполнить Людину диссертацию заново.
Чудновский, как и ожидала Евгения Марковна, не стал разговаривать о комиссии.
– Извините, – сказал он. – Я очень занят, и потому вынужден говорить коротко и прямо. Нет у меня сейчас валюты. Всё подчистую идёт на новые лаборатории. И в близком будущем ничего обещать не могу. А там… – Чудновский будто нарочно сделал паузу.
– А там мы вообще вас прихлопнем, – беззвучно договорила за него Евгения Марковна и почувствовала, как пунцовеют её щёки, а внутри разливается странная, звенящая невесомость.
Чудновский между тем поднялся, и тяжело, вдавливая каблуки в ворсистую ковровую дорожу, по-бычьи наклонив голову и засунув руки в карманы, неинтеллигентной, тяжёлой походкой сильного, уверенного в себе мужчины, прошёлся по кабинету.
– А там посмотрим, – повторил он. – Нас с Владимиром Николаевичем очень беспокоит, что у вас нет никакого выхода в практику. Нам дают большие средства. Между прочим, за счёт других, но и спрашивать будут сурово. Так что не обессудьте…
Чудновский – массивный, крупный, с широкими плечами и властным, жёстким, будто высеченным из гранита, лицом – столько в нём было уверенности в собственном могуществе -, возвышался над ней, и Евгении Марковне на миг показалось, что какая-то властная, неодолимая сила вдавливает её в кресло, прижимает к земле, мешает дышать. Все возражения, которые она могла бы произнести, такие убедительные, пока она спорила с Соковцевым, здесь показались ей никчемными и мелкими, и она, обессиленная, молчаливая, продолжала завороженно следить за его шагами, не в силах стряхнуть с себя внезапную слабость и вырваться из звонкой, головокружительной пустоты. Наконец она очнулась.
– Евгений Васильевич, вы, конечно, уже знаете про суд Линча над моей аспиранткой? Я вас очень прошу разобраться.
– Ну что же, давайте послушаем её на учёном совете. Там и разберёмся, – Чудновский вынул руки из карманов и теперь стоял, слегка опершись на стол. – Я против того, чтобы отыгрываться на аспирантах.
Это была маленькая кость, которую ей кинули в обмен на все унижения, но теперь профессор Маевская и этому была рада.
Слово своё Чудновский сдержал. Повторная апробация Люды Гореловой прошла вполне благополучно. Один Агнивцев пытался оспаривать её результаты, но и он выступал без прежнего вдохновения – знал, что вопрос решён. К тому же и общественное мнение в этот раз было настроено против него. Отчасти потому, что общественное мнение следовало за мнением Чудновского, отчасти же потому, что молодежь сочувствовала Люде Гореловой, а старые профессора – Евгении Марковне. К тому же, многие завидовали Соковцеву и Агнивцеву и считали их выскочками. Так что даже Ройтбак, который терпеть не мог Евгению Марковну, сказал Агнивцеву:
– Напрасно, Юра, ты ввязался в эту некрасивую историю. Не надо было трогать стрелочницу. Это неблагородно. Липу надо рубить под корень, а ты вместо этого ломаешь ветки.
Через месяц после учёного совета успешно апробировал свою диссертацию и Володя Веселов – его уже никто не тронул. А затем, по очереди, Люда и Володя успешно защитили диссертации, и тяжкое бремя свалилось с плеч Евгении Марковны. Но это было единственное выигранное ею сражение, единственная отсрочка в войне, где теперь почти не гремели словесные залпы, и где кипучая энергия профессора Маевской разбивалась о невидимую, но несокрушимую стену молчания, шёпота, равнодушия, пожатий плечами, плохо скрытого недоброжелательства, бездеятельного сочувствия, бесконечных заседаний, согласований, советов, отчётов и канцелярской волокиты. Между тем кольцо блокады сужалось всё сильнее: новые люди к ней не приходили, их, видно, отговаривали в отделе кадров, а чаще, стоило только кому-нибудь уволиться, как у Евгении Марковны тут же забирали ставку. Новое оборудование отдел давно не получал, и даже запчасти и реактивы сотрудники выбивали с большим трудом.
Однако, как известно, человек привыкает ко всему. Привыкла к изоляции и Евгения Марковна. Теперь всюду, где бы она ни появилась, вокруг неё тотчас образовывалась пустота, и даже у себя в отделе, стоило ей покинуть кабинет, она ощущала полосу отчуждения, образованную стыдливо опущенными глазами, или замолкшим при её появлении шепотом. И она постепенно сдалась и целыми днями отсиживалась в кабинете – пусть всё идёт, как идёт, ей бы только не слышать этот замолкший шёпот. Но в остальном всё оставалось по-прежнему, дни тянулись за днями без всяких перемен, и в этом заключалась надежда на то, что ещё долго ничего не изменится. Застой… Так бывает, когда армия, уже деморализованная и неспособная что-нибудь предпринять, наслаждается обманчивой тишиной, пока противник, или время, готовят свой решающий удар.
И вот он нанёс удар. И кто, кто! Володя Веселов, её любимый ученик, ровно через неделю после утверждения его диссертации в ВАКе…
В тот день Соковцев был сама любезность. Он встретил Евгению Марковну у самой двери и плавным, каким-то даже торжественным движеньем указал на кресло.
– Евгения Марковна, что вы можете сказать о вашем сотруднике Веселове?
– О Веселове? – искренно удивилась Евгения Марковна. Она предполагала, что Соковцев вызвал её из-за годовой заявки, и готовилась дать бой.
– Хороший работник? – снова спросил Соковцев.
– Да, хороший, – всё так же недоумённо ответила Евгения Марковна.
– Вот его заявление, – Соковцев чуть помешкал, чтобы продлить своё торжество, которое он даже не мог скрыть, потом взял со стола лист бумаги. – Просит перевести его в мой отдел. Не видит перспективы в продолжении своих научных исследований. Не согласен в принципе с направлением работ в отделе, с вашей концепцией аритмий и, как он выражается, с вашими авторитарными методами руководства. Пишет, что вы своекорыстно использовали его идеи.
– Его идеи? Да какие у него идеи? – не то удивилась, не то возмутилась Евгения Марковна. – Просто наглый мальчишка.
Соковцев слегка улыбнулся.
– Я не думаю, что нам из-за этого стоит поднимать шум. Для меня это такая же неожиданность, как и для вас. Вы не станете возражать, если мы удовлетворим его просьбу?
– Да, конечно, не стоит поднимать шум, – покорно согласилась Евгения Марковна. – Я не стану возражать.
Она была так расстроена, что даже не стала спорить из-за годовой заявки, почти полностью зарезанной Соковцевым. К чему, если всё равно распад…
– Кто же следующий? – думает Евгения Марковна, глядя в темноту, в промозглую нескончаемую ночь. Этот вопрос теперь всё время подспудно живет в ней, как будто это так важно: кто именно будет следующий?
– Нет, Юрий Борисович не уйдет. Куда он денется со своей анкетой? Сладков, Тарасевич – эти ещё аспиранты. Игорь Белогородский? Да, пожалуй, он. Честолюбив, хочет играть первые роли, у меня ему нечего ждать. Но и у него ведь пункт. Оттого, наверное, не ушел до сих пор. Значит, ему только и остаётся, что пойти к Соковцеву? Или уехать в Израиль. Этого ещё не хватало… Ведь всё пришьют ей… Она всегда у них виновата…
Евгения Марковна тяжело встает, подходит к окну, вздыхает. Лишь один человек мог бы ей помочь. Не спасти, конечно, но хоть замедлить её падение…
Человек этот – Коля…
ГЛАВА 13
Николай был старше Жени всего на четыре года. Но в тридцать восьмом, на заседании патофизиологического кружка, когда Женя увидела его впервые, он показался ей значительно старше, несмотря на юношеский румянец на щеках и по-мальчишески мягкие, редковатые усики. Коля был неизменным старостой кружка и как раз выступал с докладом. За сорок два года её впечатления давно потеряли первоначальную свежесть, поблекли и раздвоились. И теперь Евгении Марковне то представлялось, что Коля с первого взгляда показался им, первокурсницам, мудрым эрудитом, почти непререкаемым авторитетом, и они жадно внимали и верили всему, что он говорил, то, напротив, что он совсем не понравился, и что подружка, Валя, шепнула ей на ухо:
– Профессора из себя строит, – и обе они весело рассмеялись.
На заседании кружка по патологической физиологии Женя оказалась не случайно. Папа наставлял её перед отъездом: «Обязательно запишись в кружок к профессору Медведеву. Патофизиология – ключ ко всей медицине. И человек он необыкновенный, энциклопедист. Ты сама поймёшь, когда послушаешь его лекции».
В институте имя профессора Медведева было окружено легендами. Учёный с мировым именем, ещё из старых, дореволюционных профессоров, учился в Геттингене, стажировался у Людвига34, состоял в молодости в партии эсеров, побывал в тюрьме, но потом отошёл от политики, всецело посвятив себя науке. И лектор он был необыкновенный – сухонький, седенький Демосфен с молодым бархатистым голосом, блещущий эрудицией, строгой логикой и невероятно глубокой культурой. Потом Евгения Марковна часто сравнивала с ним Бессеменова. Они казались похожими, но это было не фамильное, не родственное сходство, скорее, на них обоих лежала печать иной эпохи и иной культуры. К тому же в манерах Александра Серафимовича проскальзывало что-то артистическое: взойдя на кафедру, он мгновенно преображался, молодел на глазах, увлекался так, что и он сам, и студенты забывали о времени и нередко опаздывали на следующие занятия. Он и умер на кафедре во время лекции, но это потом уже, вскоре после войны. А тогда, не надо и говорить, на лекциях его всегда было полно народу, хотя никто никогда не вёл учёт посещаемости, как на других кафедрах, и кружок его, наверное, был самый многочисленный в институте. Там студенты не только ставили эксперименты, но и вели дискуссии, подчас далеко выходившие за пределы предмета.
Рассказывали, что много лет назад, до революции ещё, в Петербурге, профессор как-то на лекции так увлёкся демонстрационным опытом, что совсем забыл об аудитории и даже не заметил, как потихоньку разошлись обиженные курсистки. Однако был вознагражден: именно в тот день он совершил открытие, принесшее ему широкую известность среди пеатофизиологов.
Теперь уже трудно вспомнить, слава ли и обаяние профессора Медведева, красноречивый ли красавец староста с серыми глазами и каштановыми кудрями, которых нет давно, мечты ли о научной славе – ведь тайно рядом с Марией Склодовской и Софьей Ковалевской виделась себе, никак не меньше, – но только с того самого дня стала Женя регулярно посещать все занятия кружка, так что вскоре красавчик Коля тоже заметил миловидную студенточку с ямочками на щеках, с толстыми косами, мечтательными карими глазами и такими ровными, белыми, красивыми зубами, что ей поневоле приходилось часто улыбаться. И не только улыбаться! Она ведь хохотушкой слыла, самой весёлой на курсе. Сейчас не поверят – укатала Женечку жизнь, но ведь было, слыла! О, какой у неё был смех, будто колокольчик из мягкого серебра. Они часто ходили с Колей в кино, в театры, гуляли в парке Горького, говорили о науке, о новых книгах, о войне в Европе, которая всё ближе подбиралась к советским границам, о профессоре Медведеве, и о своих мечтах. Да о чём только они не говорили! Даже коротких весенних вечеров им не хватало (наступил уже сорок первый) – так хорошо и интересно им было вместе. На всю жизнь запомнила Евгения Марковна (словно кадры в кино из чужой жизни), как много раз стояли они в темноте под тополями напротив общежития и ласковый ветерок обнимал их и шевелил их непокорные волосы, и где-то за яркими, раскрытыми окнами, бренчала гитара и пел патефон, и Коля нежно гладил её лицо, волосы, руки, и они прижимались друг к другу, и были долгие-долгие поцелуи, и вздохи, и слова любви. Они собирались пожениться осенью, после каникул. Летом Женя хотела пригласить Колю к себе домой, познакомиться с родителями, но тут впервые страшно сломалась жизнь – война, и почти сразу всё переменилось…
Начались занятия по гражданской обороне, дежурства по ПВО, работа в госпитале, ускоренные занятия в институте. Говорили, что студенток скоро призовут медсёстрами в армию. Впрочем, говорили много разного, в первые дни войны повсюду господствовала неразбериха и толком никто ничего не знал. И от этого, как и от фронтовых сводок, мысли стали совсем иные, очень тревожные, к тому же, гнетущее беспокойство за родителей. Отца в тридцать девятом послали работать на Западную Украину, во Львов. Город был занят немцами в первые же дни войны, а от родителей за всё время пришло лишь одно письмо, от двадцать второго июня, и с каждым днём, с каждой новой сводкой оставалось всё меньше надежды, что папа и мама живы. Приходили лишь панические письма от бабушки, из Днепропетровской области. Она совсем растерялась, то оплакивала родителей, то просила хоть на один день приехать, то, напротив, сообщала, что эвакуируется, но никак не решалась сорваться с места – надеялась, что однажды в доме появятся папа с мамой, и что папа всё, как всегда, решит за неё, и боялась оставить дом, вещи, и надеялась, вопреки событиям, что немцев вот-вот остановят, и погонят вспять. У Жени от предчувствий с тревогой сжималось сердце, она советовала бабушке немедленно уезжать. Родителям, если они остались живы, бабушка ничем не смогла бы помочь. Наконец, в сентябре объявили, что институт будут эвакуировать в Уфу, чтобы там ускоренно, год за два, закончить учёбу и пойти на фронт врачами. Женя тотчас написала бабушке, чтобы та тоже эвакуировалась в Уфу, но до бабушки письмо уже не дошло…