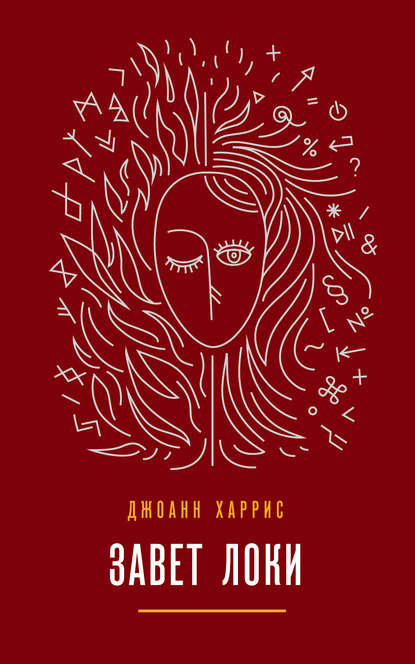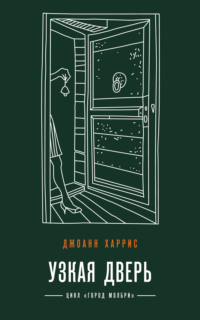Полная версия
Остров на краю света
– Знаете, вам, наверное, не удастся с ним повидаться сегодня, – сказал Флинн. – В последние дни ему не по себе. Его почти никто не видел.
– Спасибо. – Я отвернулась, чтобы спрятаться от его взгляда. – Я знаю своего отца.
Это правда; в ночь святой Марины, после шествия, Жан Большой всегда исчезает в направлении Ла Буша и там жжет свечи на могиле Жана Маленького. Этот ежегодный ритуал неприкосновенен. Ничто не может ему помешать.
– Он даже не знает еще, что вы вернулись, – продолжал Флинн. – Когда узнает, должно быть, решит, что святая услышала все его молитвы сразу.
– Спасибо вам за такие слова, – хладнокровно ответила я. – Но Жан Большой никогда не прикладывался к святой. Ни за кого.
5
Праздник нашей святой, Марины Морской, справляется раз в году, в августовское полнолуние. Этой ночью святую переносят из деревенского святилища в развалины ее храма на мысе Грино. Работа нелегкая – в святой три фута высоты, она тяжела, поскольку сделана из сплошного куска базальта, так что нужны четверо мужчин, чтобы перенести ее на цоколе к самой воде. Потом все деревенские проходят перед ней вереницей, один за другим; кто-то наклоняется, чтобы древним ритуальным жестом приложиться к голове святой, надеясь вымолить возвращение чего-нибудь (точнее кого-нибудь) потерянного. Дети украшают святую цветами. Люди бросают скромные дары – еду, цветы, перевязанные ленточкой пакетики каменной соли, даже деньги – в приливные волны. В жаровнях по обе стороны святой горят кедровые и сосновые щепки. Иногда бывают фейерверки – разрываются над равнодушным морем, словно с вызовом.
Я дождалась темноты и вышла из дома. Ветер, который сильнее всего в этой части острова, повернул на юг и выбивал свою «пляску смерти» на окнах и дверях. Я двинулась в путь, плотно запахнув куртку, и сразу увидела отсветы жаровен на дальнем конце мыса. Там когда-то был храм, но в последние сто лет он стоял разрушенный и не использовался. За это время его постепенно присвоило море, так что ныне от храма остался единственный кусок – часть северной стены. Ниша, которую занимала когда-то святая Марина, еще виднеется в выветренных камнях. В башенке над нишей когда-то висел колокол – Маринетта, собственный колокол святой Марины, – но его давно уже нет. Легенда гласит, что он упал в море; другая повествует, как Маринетту украл и переплавил жадный уссинец, а святая прокляла его, и призрачный звон его свел с ума. По временам колокол еще звонит – всегда в бурную ночь, всегда предвещая какое-нибудь несчастье. Скептики считают, что звуки, напоминающие колокольный звон, производит южный ветер, продувающий скалы и расщелины мыса Грино. Но саланцам лучше знать – это Маринетта все вызванивает свои предостережения, все приглядывает за саланцами из глубин.
Подходя к мысу, я видела силуэты на освещенной огнями стене старого храма. Много, не меньше тридцати, больше половины деревни. Отец Альбан, островной священник, стоял у воды, в руках чаша и посох. В отсветах жаровен священник показался мне седым и осунувшимся; когда я прошла мимо, он коротко поздоровался, нисколько не удивленный. От него слабо пахло рыбой; сутана аккуратно заправлена в рыбацкие сапоги.
Традиционное шествие – странно волнующее зрелище, хоть саланцы и не подозревают, что живописны. Они иной крови, чем мы с матерью – по большей части невысокие, плотные, с мелкими чертами лица, кельты; черноволосые и голубоглазые. Однако эта потрясающая красота быстро вянет, и к старости они превращаются в горгулий – одеваются в черное по примеру предков, а женщины еще носят белый quichenotte. Какой момент ни возьми, три четверти населения деревни, кажется, старше шестидесяти пяти лет.
Я быстро обшарила взглядом лица, все еще надеясь. Старухи в вечном трауре, длинноволосые старики в рыбацких гамашах и черных матерчатых куртках или в рыбацких блузах и сапогах, пара молодых людей, скрасивших костюм рыбака рубашкой кричащего цвета. Отца среди них не было.
Праздничного оживления, памятного мне с детства, в этом году не наблюдалось; цветов вокруг святилища было меньше, а обычных приношений и вовсе почти не видно. Я подумала, что деревенские мрачны, словно жители осажденного города. Хотя, быть может, дело лишь в том, что ребенок видит этот праздник по-иному, чем взрослый человек, каким я стала.
И вот наконец на дюнах за мысом Грино показался свет фонарей и донесся вой biniou; шествие святой Марины началось. Если играть на biniou умеючи, звук его немного походит на волынку. Но в этих звуках было что-то кошачье, пронзительный вой, перебивавший даже гул ветра.
Я видела каменную плиту, на которую водрузили статую; четверо мужчин, по одному с каждого угла, несли ее, напрягая силы, по неровной земле. По мере того как шествие приближалось, становились видны детали: горка красных и белых цветов под праздничными юбками святой, бумажные фонарики, свежая позолота на старом камне. Среди саланцев были и дети – лица, розовые от ветра, голоса, пронзительные от усталости и возбуждения. Я узнала круглолицего Лоло, внука Капуцины, и его приятеля Дамьена – они легко бежали по песку, неся бумажные фонарики: один зеленый, один красный.
Процессия обогнула последнюю дюну. Тут ветер вздул пламя в одном фонарике, и бумага вспыхнула; при свете пламени я узнала отца.
Он был среди тех, кто нес святую, и несколько мгновений я могла разглядывать его, не боясь, что он меня заметит. Свет огня был добр к отцу; в отсветах казалось, что он совсем не изменился, к тому же они придавали его лицу несвойственную ему живость. Отец был плотнее, чем я его помнила: отяжелел с годами; большие руки напрягались, удерживая плиту горизонтально. Лицо ужасно сосредоточенное. Все остальные мужчины, несшие святую, были моложе; я узнала Алена Геноле и его сына Гилена, оба рыбаки, привычные к тяжелой работе. Процессия остановилась перед стоящей в ожидании группой жителей деревни, и я с удивлением поняла, что четвертый человек, несущий святую, – Флинн.
– Святая Марина.
Передо мной из толпы вышла женщина и на миг прижалась губами к ногам статуи.
Я ее узнала: Шарлотта Просаж, хозяйка бакалейной лавки, пухленькая, похожая на птичку, с вечно беспокойным видом. Остальные деликатно стояли поодаль; кое-кто держал амулеты и фотографии.
– Святая Марина. Помоги нам с землей. Зимние приливы вечно затапливают поля. В прошлый раз у меня три месяца ушло, чтоб их очистить. Ты наша святая. Помоги нам.
Она говорила униженно и в то же время слегка презрительно – непонятно, как ей это удавалось. Взгляд ее тревожно бегал.
Как только Шарлотта закончила молиться, ее сменили другие. Ее муж, Оме, прозванный Картошкой за смешное, бесформенное лицо; Илэр, саланский ветеринар, лысый, в круглых очках. Рыбаки, вдовы, девочка-подросток с беспокойными глазами – все говорили одинаково – торопливо бормотали с оттенком обвинения в голосе. Я не могла протолкнуться ближе – это было бы нарушением этикета; лицо Жана Большого вновь скрылось за приливом качающихся вверх-вниз голов.
– Марина Морская, отведи море от моего порога. Пригони макрель ко мне в сети. И пускай этот браконьер Геноле не подходит к моим устричным отмелям.
– Святая Марина, пошли нам удачную ловлю. Пусть мой сын возвращается с моря целым и невредимым.
– Святая Марина, я хочу красное бикини и солнечные очки «Рэй-бан».
Отходя от святой, девушка бросила на меня мимолетный взгляд. Теперь я ее узнала: Мерседес, дочь Шарлотты и Оме, в пору моего отъезда ей было лет семь или восемь, а теперь она стала высокая, длинноногая, с распущенными волосами и красивым капризным ртом. Мы встретились глазами; я улыбнулась, но девушка наградила меня неприязненным взглядом и протолкнулась мимо меня в толпу. Кто-то занял ее место: старуха в платке, лицо умоляюще склонилось к потертой фотографии.
Процессия опять тронулась под гору, к морю, где святую опустят ногами в воду – для благословения. Когда я достигла дальнего края толпы, Жан Большой как раз отворачивался; я видела его профиль, покрытый бусинками пота, медальон блеснул на шее – и отец меня опять не заметил. Еще секунда, и стало слишком поздно: четверка носильщиков уже шла по каменистому склону к воде, напрягая силы, и отец Альбан рукой придерживал святую, чтобы она не опрокинулась. Мрачно завывали biniou; пламя охватило другой фонарик, потом третий, и черные бабочки запорхали по ветру.
Наконец они дошли до моря; отец Альбан отошел в сторону, и четверо внесли святую Марину в воду. У мыса нет песка, одни камни на дне, свет отражается от воды, и дно коварно. Прилив почти достиг высшей точки. Мне послышалось за воплями biniou, что первые порывы ветра загудели в расщелинах, голодный южный ветер завыл, и этот вой тут же усилился, почти звеня, словно колокол под водой…
– Маринетта!
Это закричала старуха в платке, Дезире Бастонне; глаза ее потемнели от страха. Худые нервные руки все еще теребили фотографию, с которой улыбалось мальчишеское лицо, отражая свет фонарей.
– Ничего подобного.
Аристид, муж Дезире, глава рыбацкой династии, носящей ту же фамилию; старик, за семьдесят, усищи патриарха, длинные седые волосы под плоской островной шляпой. Он потерял ногу за много лет до моего рождения – несчастный случай в море, тот же, что унес жизнь его старшего сына. Старик пронзил меня взглядом, когда я проходила мимо. Он тихо продолжил, обращаясь к жене:
– Чтоб я от тебя больше не слышал про злой рок. И убери эту штуку.
Дезире отвела взгляд и сплела пальцы на фотографии. За спиной у нее юноша лет девятнадцати-двадцати глянул на меня с робким любопытством из-за очочков в проволочной оправе. Он, кажется, собирался что-то сказать, но тут Аристид повернулся, и юноша поспешил к нему, бесшумно ступая босиком по камням.
Носильщики уже стояли в море по грудь, лицом к берегу, держа святую так, чтобы ее ноги были погружены в воду. Волны бились о плиту, смывая цветы. Ален и Гилен были впереди; Флинн с моим отцом – позади, они напрягались, пытаясь противостоять течению. Вода, должно быть, холодная, несмотря на август; у меня лицо занемело от летящей водяной пыли, и я дрожала, потому что ветер насквозь продувал шерстяную куртку. А ведь я стояла на берегу.
Когда все деревенские разошлись по местам, отец Альбан поднял посох для финального благословения. В эту секунду Жан Большой поднял голову, чтобы посмотреть на священника, и встретился глазами со мной.
На какой-то миг нас с отцом, казалось, окутал кокон тишины. Отец смотрел на меня через просвет между ногами святой, слегка приоткрыв рот, меж бровями пролегла сосредоточенная морщинка. Медальон на шее горел алым пламенем.
У меня что-то встало в горле, какая-то преграда, она не давала дышать. Руки стали словно не мои, чужие.
Мне показалось, что Флинн, стоящий рядом с отцом, пошевелился. Потом их резко ударило сзади волной, и Жан Большой, все еще глядя на меня, пошатнулся в волне, потерял равновесие, вытянул руку, чтобы не упасть… и уронил святую Марину с каменной плиты в глубокие воды у мыса Грино.
Долю секунды она, казалось, чудом держалась на плаву в бурном море; шелковая юбка раздувалась вокруг алым колоколом. Потом святая исчезла.
Жан Большой растерянно стоял, глядя в никуда. Отец Альбан протянул руки, тщетно пытаясь поймать святую. Аристид издал удивленный смешок. Юноша в очках за спиной Аристида сделал шаг к воде и остановился. Мой отец стоял еще секунду, и нелепо праздничный свет фонариков играл у него на лице, лишенном каких-либо иных признаков оживления. Потом он обратился в бегство – выбрался из моря, оскальзываясь на камнях, с усилием выпрямляясь снова, борясь с тяжестью намокшей одежды.
– Отец, – крикнула я, когда он поравнялся со мной, но он исчез, не оглянувшись.
Мне показалось, что, достигнув высшей точки мыса Грино, он издал какой-то звук – долгий прерывистый стон, – но, может, это был ветер.
6
По традиции после церемонии на вершине утеса все идут в бар к Анжело – выпить за святую. На этот раз пошло меньше половины участников; отец Альбан отправился прямо домой, в Ла Уссиньер, даже вино не благословил; дети – и большинство матерей – ушли спать, и собравшимся явно недоставало обычной жизнерадостности.
Конечно, главной причиной была потеря святой Марины. Теперь молитвы останутся не услышаны; прилив будет буйствовать безнаказанно. Горе моего отца не так было важно для деревенских, как их собственные суеверные страхи; мне стало неприятно, что о его бегстве так легко забыли. Оме Картошка предложил немедленно отправиться на поиски пропавшей святой, но прилив был слишком высок, неровное каменистое дно слишком опасно, и экспедицию отложили на утро.
Сама я сразу направилась в отцовский дом и принялась ожидать возвращения Жана Большого. Он не пришел. Наконец около полуночи я пошла обратно к Анжело и обнаружила там Капуцину, поправляющую нервы при помощи кофе с колдунками.
При виде меня она встала, глядя сочувственно.
– Его нет, – сказала я, садясь рядом с ней. – Он не приходил домой.
– И не придет. Сейчас-то, – ответила Капуцина.
Люди глядели на меня; я уловила любопытство и еще холодность, от которой почувствовала себя неуклюжей и чужой. Капуцина закурила сигарету и, выдыхая дым через ноздри, заговорила деловито, хоть и сочувственно:
– Ты всегда была упрямая. Как попроще тебе не годится, да? Вечно кидаешься напролом. – Она устало улыбнулась. – Мадо, не дыши отцу в затылок. Дай ему шанс.
– Шанс? – Это подошел Аристид Бастонне, с Дезире под руку. – После сегодняшнего вечера, после того, что случилось на мысу, какой у нас может быть шанс?
Я подняла глаза. Старик стоял позади нас, тяжело опираясь на палку, глаза словно кремни. Рядом, чуть в стороне, юноша в очках, волосы упали на глаза, вид смущенный. Теперь я его узнала – Ксавье, внук Аристида; в давние времена он был одиночка, книги предпочитал играм. Мы с ним почти не разговаривали, хотя нас разделяло лишь несколько лет.
Аристид все еще сверлил меня взглядом.
– Ты зачем вернулась, а? – вопросил он. – Тут больше ничего нет.
– Не отвечай, – сказала Капуцина. – Он пьян.
Аристид словно бы не услышал.
– Вы, молодые, все одинаковые! – сказал он. – Вы только тогда возвращаетесь, когда вам чего-нибудь надо!
– Дедушка, – запротестовал Ксавье, кладя руку старику на плечо.
Но Аристид стряхнул ее. Хотя старик был на голову ниже, в гневе он словно стал великаном, глаза горели, как у пророка.
Его жена, стоявшая рядом, беспокойно посмотрела на меня.
– Не сердись, – тихо сказала она. – Святая Марина… наш сын…
– Закрой рот! – рявкнул Аристид и так стремительно повернулся, опираясь на палку, что мог бы упасть, если б не стоявшая рядом Дезире. – Думаешь, ей на это не плевать?
Он вышел не оборачиваясь, с усилием волоча деревянную ногу по бетонному полу, домочадцы потянулись за ним. Их проводили молчанием.
Капуцина пожала плечами.
– Не обращай на него внимания. Он просто перебрал колдуновки.
– Я не понимаю.
– Нечего тут и понимать, – сказал Матиа Геноле. – Это ж Бастонне. Каменный лоб.
Его слова меня не очень подбодрили; Геноле и Бастонне ненавидели друг друга на протяжении многих поколений.
– Бедный Аристид. Обязательно против него кто-нибудь строит козни. – Я повернулась и увидела, что на барную табуретку рядом со мной взгромоздилась маленькая старушка в черных вдовьих одеждах. Туанетта Просаж, мать Оме, старейшая обитательница деревни. – Если верить Аристиду, кто-то вечно старается его куда-нибудь упрятать, прибрать к рукам его сбережения – э! – Она расхохоталась, словно ворона каркнула. – Все ведь знают, он столько потратил на свой дом, святая Марина! Даже если его сын теперь вернется, ему ничего не светит – только старая лодка да затопленный клочок земли, на который и Бриман не польстился!
Я ощупывала письмо, которое так и лежало в кармане.
– Бриман?
– Разумеется, – сказала Туанетта. – У кого еще есть деньги в этих местах, чтобы что-то делать?
Согласно Туанетте, у Бримана были планы на Ле Салан. Планы эти были столь же зловещи, сколь и неопределенны. Я узнала традиционную неприязнь саланцев к преуспевающему уссинцу.
– Ему ничего не стоит сделать в Ле Салане все, что надо, для него это тьфу! – сказала старуха, сопроводив слова выразительным жестом. – У него есть и деньги, и машины. Осушить болота, поставить волноломы на Ла Гулю – за полгода справился бы. И никаких больше паводков. Э! Конечно, все это не забесплатно, даже не думай. Он не благотворительностью себе капитал сколотил.
– Может, имеет смысл узнать, чего он хочет взамен?
Матиа Геноле кисло посмотрел на меня.
– Что? Продаться уссинцу?
– Не кидайся на девочку, – сказала Капуцина. – Она старается как лучше.
– Да, но если он может прекратить паводки…
Матиа решительно покачал головой.
– Морю не прикажешь, – сказал он. – Оно делает что хочет. Если святой угодно нас утопить, то так оно и будет.
Я узнала, что деревню постигла череда плохих лет. Несмотря на покровительство святой Марины, приливы с каждой зимой поднимались все выше. В этом году затопило даже Океанскую улицу, впервые после войны. Лето тоже выдалось неспокойным. Ручеек вздулся и залил всю деревню соленой водой на три фута – урон еще не везде успели исправить.
– Если и дальше так будет, мы кончим, как старая деревня, – сказал Матиа. – Там все утонуло, даже церковь.
Он набил трубку и утрамбовал табак грязным большим пальцем.
– Только подумать. Церковь. Если святая не поможет, то кто?
– Ну, то был Черный год, – заявила Туанетта Просаж. – Тысяча девятьсот восьмой. В тот год умерла от инфлюэнцы моя сестра Мари-Лора, а я родилась.
Она пронзила воздух кривым пальцем.
– Вот она я, дитя Черного года; никто не думал, что я выживу. А я выжила! Так что, если мы хотим пережить и этот год, нечего цапаться между собой, как бакланы.
Она строго посмотрела на Матиа.
– Легко сказать, Туанетта, но раз святая больше за нас не стоит…
– Я не про то говорю, Матиа Геноле, и ты это прекрасно знаешь.
Матиа пожал плечами:
– Не я первый начал. Если Аристид Бастонне хоть один раз признает, что был не прав…
Туанетта сердито повернулась ко мне.
– Видишь, что делается? Взрослые мужчины – старики – ведут себя как дети. Неудивительно, что святая гневается.
Матиа ощетинился.
– Не мои же внуки уронили святую…
Капуцина злобно уставилась на него. Он осекся.
– Извини, – сказал он, обращаясь ко мне. – Жан Большой не виноват. Если кто и виноват, то Аристид. Он не дал своему внуку нести святую, ведь тогда там были бы двое Геноле и только один Бастонне. Он сам, конечно, не мог помочь, с деревянной ногой-то.
Он вздохнул.
– Я же уже говорил. Будет Черный год. Вы же все слышали, как Маринетта звонила.
– Это не Маринетта была, – сказала Капуцина.
Она машинально сложила левой рукой рожки, чтобы отвести несчастье. Матиас сделал то же.
– Я тебе говорю, этого следовало ожидать, прошло тридцать лет…
Матиас опять сложил рожки.
– Семьдесят второй. Плохой был год.
Я знала, что плохой: в тот год погибло трое деревенских, в том числе брат отца.
Матиа отхлебнул колдуновки.
– Аристиду однажды показалось, что он нашел Маринетту. Ранней весной, в тот год, когда он потерял ногу. Оказалось, это старая мина, осталась с первой войны. Ирония судьбы, скажешь нет?
Я согласилась. Я слушала вежливо, как могла, хотя девочкой слышала эту старую байку много раз. Ничего не изменилось, говорила я себе с каким-то отчаянием. Даже байки тут такие же старые и потрепанные, как сами островитяне, заезженные, как бусины в четках. Жалость и нетерпение скопились у меня в груди, и я глубоко вздохнула. Матиа, ничего не замечая, продолжал рассказывать так, будто история произошла вчера.
– Эта штука лежала, наполовину зарытая в песчаном наносе. Если ударить по ней камнем, она звенела. Тогда все дети сошлись с палками и камнями, колотили по ней, чтоб звенела. Несколько часов спустя прилив забрал ее обратно, и она взорвалась сама по себе примерно в ста метрах от того места, где сейчас Ла Жете. Оглушила всю рыбу оттуда до Ле Салана. Э! – Матиа смачно затянулся из трубки. – Дезире сварила ведро буйабеса, не могла вынести, что столько рыбы пропадает зря. Отравила полдеревни.
Он посмотрел на меня из-под покрасневших век.
– Я так и не решил, что это было – чудо или нет.
Туанетта согласно кивнула.
– Что бы это ни было, с тех пор наша удача сошла на нет. Оливье, сын Аристида, умер в тот год и… ну, ты знаешь… – Она взглянула на меня.
– Жан Маленький.
Туанетта опять кивнула.
– Э! Эти братцы! Слыхала бы ты их в старые времена, – сказала она. – Как сороки, оба два. Болтали без умолку.
Матиа глотнул колдуновки.
– Черный год забрал у Жана Большого сердце, точно так же как забрал дома у Ла Гулю. В тот год приливы, может, были и больше нынешних, но ненамного.
Он мрачно вздохнул – с таким видом, словно ему было приятно пророчить беду, – и ткнул в мою сторону черенком трубки.
– Девочка, я тебя предупредил. Не обживайся здесь. Потому что еще один такой год…
Туанетта встала и поглядела в окно, на небо. За мысом нависал тускло-оранжевый горизонт, уже отрастивший ножки дальних молний.
– Плохие времена наступают, – заметила она без особого беспокойства в голосе. – Совсем как в семьдесят втором.
7
Я спала в своей старой комнате, и море шумело у меня в ушах. Когда я проснулась, было светло, а отец так и не появился. Я сварила кофе и выпила его очень медленно – я тянула время как могла. На душе у меня было несообразно тяжело. Чего я ждала? Что мне заколют упитанного тельца? На меня все еще давила мрачность вчерашнего праздника, а состояние дома только ухудшало дело. Я решила выйти наружу.
Небо было затянуто облаками, с Ла Гулю доносились крики чаек. Должно быть, уже пришло время отлива. Я надела куртку и пошла поглядеть.
Ла Гулю сначала чуешь, только потом видишь. При отливе пахнет всегда сильнее – водорослями, рыбой, чужаку этот запах может показаться неприятным, но мне он навевает сложные ностальгические ассоциации. Подходя со стороны острова, я видела заброшенные солончаки, блестящие в серебристом свете. Старый немецкий бункер, полузарытый в дюну, похож был на детский кубик, брошенный с неба. Из башни шел дым – видно, Флинн готовил завтрак.
Ла Гулю за прошедшие годы пострадал сильнее всего остального Ле Салана. Подбрюшье острова сильно размыло, и памятная мне с детства тропа ушла в море, оставив вместо себя беспорядочный каменный оползень. Ряд древних пляжных веранд, памятных мне с детства, смыло; осталась лишь одна, словно длинноногое насекомое на камнях. Устье ручейка расширилось, хотя кто-то явно пытался его укрепить – кривая грубая стена из камней, скрепленных раствором, стояла с западной стороны, но западный берег ручья со временем сместился, и русло оказалось беззащитным перед приливами. Я начала понимать пессимизм Матиа Геноле: случись сильный прилив с ветром в ту же сторону, и вода пойдет вверх по ручью, перельется через дамбу на дорогу. Но главная перемена в Ла Гулю была гораздо красноречивей. Крепостные стены из водорослей, которые всегда были тут, даже летом, теперь исчезли, осталась полоса голых камней, не прикрытых и слоем грязи. Меня это удивило. Неужели ветра переменились? Как я уже говорила, все всегда возвращается на Ла Гулю. Но сегодня тут не было ничего: ни водорослей, ни обломков, ни даже куска пла́вника. Чайки словно тоже это понимали: гневно крича друг на друга, они кружили в воздухе, но не опускались поесть. В отдалении виднелись на фоне темной воды кружевные оборки пены вокруг кольца Ла Жете.
Отца на берегу, судя по всему, не было. Я сказала себе, что, может, он пошел на Ла Буш; кладбище было чуть поодаль от деревни, по направлению ручья. Я там бывала, хоть и не часто; на Колдуне забота о мертвецах – мужское дело.
Постепенно я поняла, что рядом кто-то есть. Может, по движениям чаек: сам он совершенно точно не издавал никаких звуков. Я повернулась и увидела Флинна, который стоял в нескольких метрах позади меня и глядел в том же направлении, на море. В руках у него было два садка с омарами, а на плече – спортивная сумка. Садки были полные, и оба помечены красной буквой «Б» – Бастонне.
Браконьерство – единственное преступление, которое на Колдуне воспринимают всерьез. Украсть добычу из чужого садка – не лучше, чем переспать с чужой женой.
Флинн улыбнулся мне без тени раскаяния:
– Удивительно, чего только не приносит море, – бодро заметил он, показывая одним из садков на мыс. – Я думал прийти пораньше и проверить, пока не явится полдеревни искать святую.
– Святую?
Он покачал головой.
– Боюсь, у мыса ее нет. Должно быть, приливом откатило в сторону. Здесь такие сильные течения – вполне возможно, она уже на полпути к Ла Гулю.