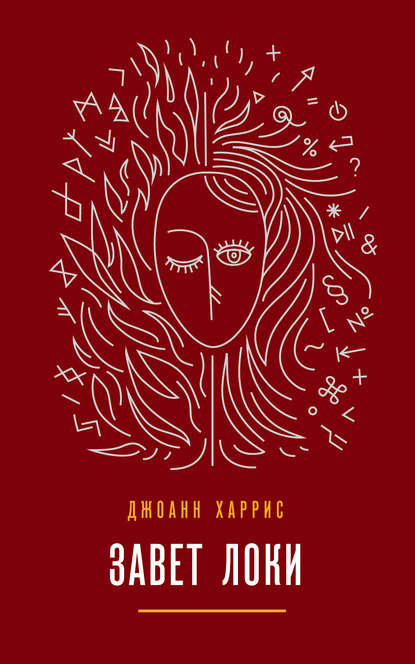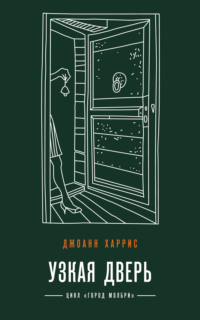Остров на краю света

Полная версия
Остров на краю света
Жанр: современная зарубежная литературамагический реализм / мистический реализмпсихологическая прозастановление героясоциальная прозалитература Великобритании
Язык: Русский
Год издания: 2002
Добавлена:
Серия «Магия жизни»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу