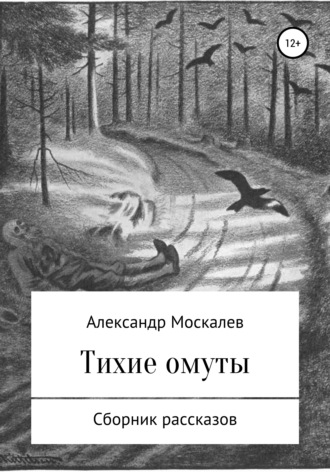 полная версия
полная версияТихие омуты
Откинувшись в кожаное кресло Александр Степанович включил огромную плазменную панель, вмонтированную в стену напротив его рабочего стола. Круглосуточный информационный канал только что начал очередной выпуск новостей. Диктор в строгом костюме поздоровался с аудиторией.
– Неожиданная новость пришла сегодня из Северо-западного федерального округа. Златоустьинский район объявлен зоной контртеррористической операции. Официальные сведения пока достаточно скудны, известно только, что основным местом проведения операции являются поселения, расположенные на берегах Ярозера. Также в самом Златоустьинске и в областном центре Федеральной службой безопасности проведены задержания нескольких десятков сотрудников различных силовых ведомств, в том числе высокопоставленных, районных и областных чиновников разных рангов. По мнению экспертов, опрошенных нашей программой, происходящие события могут свидетельствовать о наличии в регионе крупной, хорошо законспирированной преступной организации, имеющей неформальные связи с местной властью, построенные на коррупции и подкупе. Наш собственный корреспондент Олеся Доронина передает с места событий.
В кадре появилась молодая темноволосая девушка. Она стояла на том самом месте, с которого несколько дней назад Артем, Маша и Олег впервые увидели Свято-Троицкий монастырь и Большой остров. Сильный ветер трепал легкий кожаный пиджак журналистки. Иногда его порывы заставляли фонить ее миниатюрный микрофон.
– Здравствуйте, Алексей! – поздоровалась она с ведущим. Действительно, официальной информации у нас еще нет, вы можете видеть, что здесь собрались представители почти всех ведущих средств массовой информации, – камера услужливо показала несколько припаркованных на обочине фургонов с антеннами-тарелками на крышах. – Однако к самому озеру и близлежащим деревням, а также к Святотроицкому монастырю, нас не пускают. Проход и проезд закрыт сотрудниками областной полиции.
Оператор перевел камеру немного в сторону и зрители увидели, что дорога действительно перегорожена железными заграждениями, рядом с которыми с сосредоточенным видом, положив руки на висящие на груди автоматы, стояли двое полицейских в полевой экипировке.
– Однако мы можем предположить, – продолжала Олеся, – что ядром операции является деревня, расположенная на острове посередине Ярозера. В настоящий момент около паромной переправы, которая связывает остров с материком, наблюдается большое скопление автомобилей оперативных служб.
Оператор снова перевел камеру, и, дав максимальное приближение, показал берег озера недалеко от монастыря. На нем действительно стояло множество автомобилей со спецсигналами: здесь было несколько полицейских УАЗиков и два огромных Урала с ОМОНом, микроавтобусы Следственного комитета и Прокуратуры, пара вездеходов МЧС, построенных на базе армейских БТРов, едва ли не десяток карет скорой помощи, пожарная машина с выдвижной лестницей, а также неизвестно зачем оказавшийся там видавший виды УАЗик-«батон» с надписью «Областная ветеринарная служба». Между машинами бродили люди в форме. Собираясь группками они курили, о чем-то разговаривали, то и дело показывая руками в сторону острова. У причала, к которому обычно приставал паром, на воде покачивались несколько моторных лодок, предоставленных местными жителями, монастырский катер, а также два окрашенных в яркие сине-оранжевые цвета катера МЧС. Еще один катер, рассекая волны на озере, шел к Большому острову.
– Не смотря на установленный властями режим секретности, – снова говорила Олеся, – нам удалось выяснить некоторые подробности. На условиях полной анонимности, представитель одного из силовых ведомств сообщил нашей телекомпании о том, что на острове в течение многих десятилетий, а возможно и столетий, существовала псевдохристианская секта, практиковавшая человеческие жертвоприношения. За время ее существования от рук религиозных фанатиков погибли несколько сотен человек. В жертву приносились так называемые «избранные» – мужчины-первенцы, родившиеся на острове, по достижении ими совершеннолетия. Кроме того, лидеры общины, известные как «наставники», подозреваются в мошенничестве, подкупе должностных лиц и вымогательстве денежных средств у членов общины. Этот изуверский культ процветал на острове при полном попустительстве местных властей, в том числе и правоохранительных органов. Раскрыть преступление удалось лишь с помощью внедрения в секту сотрудника Федеральной службы безопасности. После того, как были получены необходимые доказательства, в том числе, совершения человеческих жертвоприношений, ФСБ провела задержания высокопоставленных чиновников города Златоустьинска, которые многие годы закрывали глаза на происходящее на острове. Задержаны и все общинники – более ста человек. По нашей информации, во время операции погиб один из местных жителей, а недавно мы видели, как с острова доставили и погрузили в автомобили скорой помощи нескольких раненых.
Сильный порыв ветра растрепал волосы журналистки и заставил ее замолчать на несколько секунд.
– Введение во всем районе режима контртеррористической операции свидетельствует о тяжести преступлений, совершавшихся на острове. Если сведения нашего информатора о количестве жертв верны, можно говорить о раскрытии самой кровавой преступной организации в нашей стране. Поскольку убийства совершались на религиозной почве, мы попросили прокомментировать эти события игумена православного Свято-Троицкого мужского монастыря Московского патриархата, расположенного здесь же, на берегу Ярозера, отца Анисима.
В эфир пустили отснятый чуть ранее материал. Игумен Анисим стоял на фоне фургона с логотипом телекомпании, заложив руки за спину. Олеся задавала ему вопросы.
– Отец Анисим, по последним данным, на Большом острове Ярозера многие века существовала тоталитарная секта, в практику которой входили и человеческие жертвоприношения. Вы слышали что-нибудь об этой секте?
– Мы, как и население всех окрестных деревень, знали, что на острове существовала крайне закрытая община, основанная на христианской догматике. Общинники иногда приезжали в наш монастырь, они были замкнуты и молчаливы, практически не общались ни с насельниками монастыря, ни с другими паломниками. Мы считали, что они пытаются воссоздать в отдельно взятом месте атмосферу древнерусской православной общины.
– Но при этом приносили в жертву своих первенцев? – спросила Олеся.
– В истории известно множество примеров, когда традиционная, высоконравственная и в целом позитивная религиозная мысль, оказавшись в условиях долговременной изоляции, вырождалась в совершенно чудовищные формы, до неузнаваемости извращая присущие основным мировым религиям принципы гуманизма, любви к ближнему и взаимопомощи. В то же время нельзя забывать о том, что враг рода человеческого никогда не дремлет, он готов использовать любую возможность для того, чтобы совратить людей с пути истинного.
– То есть Вы считаете, что в появлении этой секты виноват дьявол?
– Православная церковь верит, что человек – это существо, наделенное Богом свободой воли. Дьявол может подталкивать людей к совершению злых и даже страшных поступков, но не может заставить совершить их. Грех всегда совершает сам человек, в силу своей лени, духовной слабости, неспособности противостоять чужому внушению, слабых моральных принципов. Очень часто корнем греха становится гордыня, или высокомудрие, когда человек, поправ все духовные авторитеты, пытается своим умом трактовать вечные истины. Заблуждаясь все глубже и глубже, он благими, изначально, намерениями сам устилает себе дорогу в ад.
– Мы говорили с некоторыми местными жителями из деревни Пустоволок, ближайшей к монастырю. Все они характеризовали сектантов с Большого острова как немного странных людей, однако скорее всего праведных, много времени уделяющих посещению церкви, молитвам, посту. Вам не кажется странным, что эти праведные люди на деле оказались кровавыми маньяками?
– Евангелие от Матфея донесло до нас слова Спасителя, сказанные в Нагорной проповеди: «По делам их узнаете их». Только совершенные им поступки могут характеризовать человека; только увидев, что именно сделал человек на этой земле, можно сказать, праведен он или грешен. Ведь праведность и грех всегда идут рука об руку и слишком часто за личиной праведности скрываются самые страшные преступления.
– Нам сказали, что большинство членов общины – жертвы промывания мозгов и мощного психического внушения, им не будут предъявляться обвинения. Сейчас с ними работают психологи. Чем монастырь может помочь этим людям?
– Тем же, чем мы помогали им все это страшное время – своей молитвой. Мы будем рады каждому, кто прозреет, найдет в себе силы изменить собственную жизнь и придет к нам в качестве послушника или просто помощника. Тем более, что наш монастырь возможно на какое-то время станет обладателем великой православной святыни, которая была найдена в ходе этой операции на Большом острове. Я говорю о мощах почитаемого русского святого Артемия Веркольского.
– Как же они оказались на острове? – спросила Олеся.
– Мощи были утеряны во время Гражданской войны. Очевидно кто-то из братии Свято-Артемьева Веркольского монастыря, в котором хранились мощи, перенес их сюда и укрыл от безбожной власти.
– Получается, что это сектанты хранили столь почитаемую православную святыню?
– Нет, они не знали о том, что мощи спрятаны на острове. Как я уже говорил, святое и грешное всегда находятся рядом, порой очень трудно их разделить. Но я убежден, что именно молитвенная помощь святого Артемия помогла покончить с этой жуткой сектой.
Острожский поморщился как от зубной боли и выключил телевизор. Заложив руки за спину, он несколько раз прошелся по кабинету, нахмурившись и в задумчивости покусывая губы. Подойдя к столу, он по селектору вызвал своего помощника. Когда молодой человек неслышно проскользнул в кабинет, Александр Степанович сидел в глубоком кожаном кресле и пил виски из своего мини-бара.
– Сегодня вечером собери всех праведных в церкви, – тяжелым взглядом глядя на помощника, сказал он. – Я старший наставник московской общины и в этот трудный для всех нас час должен успокоить свое духовное стадо…
Встречники
Пыль дорожную развеяв,
Ищет Встречник – дух ветров
Души подлинных злодеев
И бессовестных воров…
Чтоб случайно в нем не сгинуть,
Ни к чему кричать "не трожь!", –
Вихрь исчезнет, – стоит кинуть
Вглубь его обычный нож.
Эльдар Ахадов «Встречник»
Декабрь установился морозный, такой, какого не было уже много лет. Еще в конце осени выпал снег: он шел, не прекращаясь, несколько дней, а затем землю сковала лютая стужа, загнав непривычных к экстремальным холодам москвичей по теплым квартирам и офисам.
Иван, в отличие от большинства, радовался морозной погоде. Он вырос в Сибири и с раннего детства любил зиму, а промозглую слякоть оттепелей не переносил на дух. Когда неожиданно в середине января искристые снежные сугробы серели и проседали, превращаясь в хлюпающую под ногами кашу, Ивана особенно сильно тянуло на родину, в отдаленную зауральскую деревушку. Он не знал, существует ли она до сих пор или исчезла подобно многим другим деревням, ставшим призраками после смерти последнего жителя. По мере того, как шли годы, отдалявшие Ивана от детства, воспоминания об этой безмятежной поре все больше затуманивались, и лишь изредка, растревоженные давно забытым звуком или запахом, всплывали в памяти какие-то неожиданно четкие образы из детства, наполняя сердце щемящей тоской по ушедшим временам.
Он рано уехал со своей малой родины, окончил институт в Омске, а затем перебрался в Москву, которая к тому времени стала единственным городом в стране, где можно было найти высокооплачиваемую работу. И столица приняла Ивана, возможно потому, что нуждалась в таких как он – целеустремленных и не знающих усталости. За двадцать лет, проведенных в Москве, Иван успел сделать карьеру, жениться и похоронить умершую от тяжелой болезни жену, а также жестоко пожалеть о том, что так и не нашел времени завести детей.
После смерти жены он оставил работу, благо накопленных за это время средств вполне хватало на спокойную безбедную жизнь, и поселился в небольшом коттедже, который они вместе с супругой купили в дальнем Подмосковье. Первое время Иван, еще достаточно молодой сорокапятилетний мужчина, не знал, чем можно занять себя в этой глуши: много читал, смотрел телевизор, ходил за грибами, на рыбалку и отдавал весь свой улов престарелой соседке – Вере Сергеевне.
Со временем между Иваном и пожилой женщиной возникли доверительные, почти родственные отношения. Видимо она подсознательно напоминала мужчине его мать, которая умерла много лет назад. У Веры Сергеевны были две взрослые дочери, одна из которых жила с семьей в Москве, а другая – в Твери. Обе лишь изредка навещали мать, круглый год проживавшую в родной деревне Юрловка.
Иван выбрал дом в этой деревне потому, что она чем-то походила на его родные места: тот же разделенный проселочной дорогой ряд приземистых изб с покосившимися деревянными заборами в окружении густого леса. На опушке этого темного, почти таежного леса, в котором безраздельно властвовали старые толстые ели, приютились несколько новых коттеджей. Трудно сказать, почему подрядчик выбрал для застройки этот глухой угол Подмосковья, к которому не было проложено даже более-менее сносных дорог. Судя по всему, коммерческое чутье изменило ему, поскольку из четырех построенных домов только один был куплен Иваном, а остальные пустовали, уныло глядя на деревенскую улицу темными глазницами окон. Нежилые дома навевали тоску. Одинокий сторож изредка подстригал газоны, а зимой убирал снег во дворах коттеджей.
Иван стоял у окна гостиной, или, как говорил при продаже представитель риэлтора, каминного зала, и смотрел на искрящийся во дворе снег. В доме было тепло, однако по морозному дыханию пластиковых окон можно было догадаться, что стужа и не думает отступать. «Ночью будет минус тридцать. Надо не забыть пустить Дика домой», – подумал Иван. Он отошел от окна и окинул взглядом гостиную. Тихо работал плазменный телевизор. Напротив него в глубоком мягком кресле сидела Вера Сергеевна, на столике рядом с ней стоял уже изрядно остывший чай.
Именно Вера Сергеевна подала Ивану мысль не впадать в меланхолию и не тратить впустую время, а заняться тем, о чем он мечтал все те годы, что отдавал напряженной работе. И Иван начал писать книгу. Он и сам не мог сказать, о чем его роман. В нем было что-то автобиографическое, рассказ о том, как менялись страна и мир на глазах молодого парня, приехавшего из провинции покорять столицу. Вера Сергеевна выступала консультантом в той части книги, которая касалась деревенской жизни, потому что память Ивана не сохранила многих деталей, способных оживить его повествование о нелегком быте советского села.
Сейчас пожилая женщина читала несколько свежих страниц, которые Иван напечатал вчера вечером. Мужчина наблюдал за ее лицом. На нем, сменяя друг друга, появлялись то тень недовольства и разочарования, то ироничная улыбка. Чтобы отвлечься и не волноваться в ожидании строгого вердикта, Иван перевел взгляд на экран телевизора. Начинался выпуск новостей. Молодой диктор зачитывал первую новость: «Президент России подписал указ, направленный на усиление контроля государства над банковской сферой». Иван усмехнулся. Еще несколько месяцев назад его бы сильно заинтересовала эта новость, однако жизнь в деревне, хоть и недолгая, наложила свой отпечаток: Иван начал интересоваться более приземленными вещами, чем политика и экономика.
Вера Сергеевна, наконец, дочитала рукопись. Она аккуратно сложила листки в стопку, постучав ее ребром о стол, затем сняла очки и пристально посмотрела на Ивана. Он приготовился получить порцию критики, на которую его рецензент обычно не скупился, но тут неожиданно раздался звонок в дверь. Иван машинально взглянул на часы: только миновал полдень. Он не ждал никаких гостей.
– Странно, – пробормотал он. – Кто бы это мог быть?
Вера Сергеевна неопределенно пожала плечами, хотя вопрос был обращен не к ней.
– Сейчас вернусь, – сказал Иван и вышел в прихожую. Вера Сергеевна взяла в руки чашку с остывшим чаем и прислушалась к бормотанию телевизора. «Трагедия произошла вчера вечером в Приэльбрусье, – бесстрастным тоном рассказывал диктор. – Лавина накрыла группу туристов в составе четырех человек. Трое из них погибли, один в тяжелом состоянии доставлен вертолетом МЧС в больницу Пятигорска. Напомним, что это уже второй несчастный случай, связанный со сходом лавины в этом регионе за последнюю неделю».
Вера Сергеевна вздохнула и отхлебнула холодного чая. У нее сильно ломило поясницу, что предвещало скорую смену погоды. К тому же не давал покоя больной зуб. «Надо бы попросить Ваню отвезти меня к зубному», – подумала женщина.
Иван тем временем накинул пуховик, сунул ноги в ботинки и вышел на улицу. Спустившись с крыльца, он прошел по расчищенной дорожке до калитки. По ее сторонам высились укрытые на зиму кусты можжевельника. Иван нажал на кнопку, отпиравшую магнитный замок, и приоткрыл калитку.
Снаружи стояли два человека. Иван сразу же узнал их, несмотря на то, что не видел почти двадцать лет. Это были его однокурсники Глеб Семенов и Динара Мамедова. В институте их связывали приятельские отношения, но с тех пор как Иван перебрался в Москву, дорожки однокурсников разошлись. Через общих знакомых до Ивана долетели слухи, что Глеб и Динара через несколько лет после окончания института поженились, но как дальше складывалась их жизнь, он не знал.
Наверное, меньше всего он ожидал увидеть Глеба и Динару на пороге своего коттеджа, адрес которого был известен очень немногим. Тем более не могли его знать люди, с которыми он потерял всякую связь еще в прошлом веке. Однако зрение не обманывало Ивана: это были его однокурсники, хотя и сильно изменившиеся за прошедшие годы. Глеб возмужал, отпустил небольшую бородку, вокруг глаз появились морщинки, да и сами глаза, когда-то пронзительно голубые, потускнели и как будто выцвели, приобретя невыразительный серый оттенок. Лицо институтского приятеля, несмотря на мороз, было неприятно бледным. Динара тоже изменилась: из молодой спортивной красавицы, которой придавал особое очарование смуглый цвет лица и восточный разрез глаз, она превратилась во взрослую женщину, однако даже под пуховиком и зимними штанами было видно, что ее фигура не потеряла былой стройности.
Иван с удивлением смотрел на нежданных гостей, а они так же молча смотрели на Ивана.
– Глеб, Динара, это вы? – спросил он первое, что пришло на ум.
– Да это мы. Здравствуй, Ваня! Вот ведь где довелось встретиться, – ответил Глеб и улыбнулся.
– Столько лет прошло! Как вы здесь оказались?
– Приехали к тебе в гости, – просто ответила Динара.
Иван не знал, что сказать и продолжал стоять в дверях и смотреть на двух людей, явившихся из его прошлого. Они тоже молчали, оценивающе глядя на Ивана. Наконец он опомнился и понял, что выглядит достаточно глупо.
– Заходите в дом, что же мы на пороге стоим!
Он посторонился, пропуская гостей в калитку. Глеб и Динара как будто в нерешительности помялись у входа, глядя себе под ноги. Наконец Динара первой перешагнула порог, за ней вошел Глеб. Иван закрыл калитку и вслед за гостями направился к дому. Неожиданно Дик, огромная кавказская овчарка, сидевшая на цепи в будке около дома, с бешеным лаем кинулся в сторону вошедших. Глеб и Динара испуганно попятились, но цепь, натянувшись до предела, отбросила Дика обратно. Собака снова зашлась истошным, захлебывающимся лаем, скаля свои огромные желтые клыки и выпуская из пасти клубы пара, быстро таявшие в морозном воздухе.
– Замолчи, Дик, успокойся! – крикнул на собаку Иван, но Дик и не думал останавливаться. Вдруг Глеб поднял голову и пристально посмотрел на беснующуюся собаку. Под его тяжелым, немигающим взглядом кавказец испуганно опустил свой роскошный хвост, еще пару раз неуверенно гавкнул, а потом заскулил и задом попятился в свою конуру. Глеб, как ни в чем не бывало, двинулся дальше.
– Не знаю, что на него нашло, – извиняющимся тоном сказал Иван. – Мы его еще в Москве взяли, совсем щенком был. Он обычно спокойный, на соседей не бросается. Правда, недавно сантехник приходил, вот на него тоже лаял.
– Все нормально, Ваня, меня просто собаки не любят, – успокоил его Глеб
– У тебя тут красиво, – заметила Динара, останавливаясь на крыльце. – Я думаю, что летом здесь очень много зелени.
– Спасибо, я не так давно участок купил, мы в Москве жили, потом вот… переехал. – Иван заметил, что о чем бы ни начинал говорить: о Дике, участке или переезде, он все время упирался в воспоминания о своей жене. – А зелени здесь действительно много. Лес рядом, да и на участке я уже кое-что посадил.
Гости продолжали осматриваться, стоя на высоком крыльце коттеджа. Иван открыл дверь, но Глеб и Динара не спешили заходить.
– Пойдемте в дом, холодно все-таки! – сказал Иван, уже успевший изрядно замерзнуть в накинутом на футболку расстегнутом пуховике. Только после этого его однокурсники вошли в прихожую. Когда гости разделись, Иван провел их в гостиную. Вера Сергеевна допила чай и собиралась уходить.
– Это моя соседка, Вера Сергеевна, – представил ее Иван. – Вера Сергеевна, а это мои однокурсники: Глеб и Динара. Мы с ними двадцать лет не виделись.
Вера Сергеевна внимательно посмотрела на вошедших.
– Очень приятно, – произнесла она с улыбкой. – Я не буду вам мешать, – добавила она, обращаясь к Ивану, – Тем более, что после такой долгой разлуки вам точно будет о чем поговорить. Я к тебе завтра зайду, занесу баночку соленых грибов, как обещала.
Выходя из комнаты, Вера Сергеевна предусмотрительно перевернула текст прочитанной рукописи белой стороной вверх. Она знала, что Иван трепетно относится к своим литературным опытам и вряд ли захочет обсуждать их с людьми, которых не видел много лет. В дверях пожилая женщина еще раз оглянулась на Глеба и Динару, севших рядом на диване напротив телевизора. Извинившись перед ними, Иван вышел в прихожую проводить соседку.
Вера Сергеевна казалась задумчивой и слегка рассеянной.
– Про роман завтра с тобой поговорим, – сказала она. – Мне показалось, что в целом неплохо, но есть, конечно же, и минусы.
– Я был уверен, что Вы их найдете, – улыбнулся Иван. – Будьте осторожны – на дорожке под снегом – скользкий лед.
Закрыв за женщиной дверь, Иван вернулся в гостиную. Глеб и Динара по-прежнему молча сидели на диване и смотрели прямо перед собой. Ивана неприятно поразило застывшее, неживое выражение их лиц. Еще на улице он заметил неестественную бледность Глеба, а теперь ему начало казаться, что и от природы смуглое лицо Динары тоже приобрело сероватый землистый оттенок.
– Чем вас угостить? – спросил он. – Есть чай, кофе, можно и покрепче чего-нибудь найти. С едой немного похуже – я живу один, а кулинарными способностями никогда не отличался, вы же, наверное, помните. Так что в холодильнике только полуфабрикаты.
Иван виновато улыбнулся и замолчал. Глеб поднял на него глаза:
– Спасибо, Ваня, мы не голодны.
Снова повисло неловкое молчание. Постояв немного, Иван присел на краешек кресла, в котором перед этим сидела Вера Сергеевна.
– Как вы оказались в наших краях? – снова спросил он, надеясь хоть как-то завязать разговор.
– Проездом, – улыбнулась Динара. – Мы путешествуем.
– А как узнали, что я здесь живу? Честно говоря, я переехал сюда не так давно, почти никто не знает моего нового адреса.
– Нам подсказали соседи, – ответил Глеб. – Мы здесь разговаривали с одним мужичком насчет новых коттеджей в этой деревне, он рассказал, что они так и стоят пустые, только в одном некий Иван Аверьянов живет. Мы подумали, что это ты, решили заглянуть.
Эта короткая речь как будто отняла у Глеба силы. Он снова невидящим взглядом уставился перед собой.
– А чем вы по жизни занимаетесь? – спросил Иван. – Я мало с кем из однокурсников общался, но до меня дошли слухи, что вы … эээ … вроде как семью создали?
– Да, мы после института поженились, – Динара взяла Глеба за руку.
– А детишек завели, если не секрет? – продолжал спрашивать Иван.
– Нет, – с заметной грустью ответила Динара.
– Я вот тоже не успел… – Иван подумал, что снова возвращается к своей так неожиданно прервавшейся семейной жизни, но решил не говорить о ней, пока гости сами не спросят. Впрочем, Глеб и Динара продолжали молчать и смотреть в пустоту, изредка поднимая глаза на Ивана.
– Вы по-прежнему в горы ходите? – спросил он, вспомнив, что в студенческие годы его друзья всерьез увлекались спортивным альпинизмом, каждый год ездили то на Алтай, то на Приполярный Урал, то на Кавказ. Несколько раз в наименее сложные экспедиции с ними выбирался и Иван, хотя особой тяги к такого рода приключениям никогда не испытывал.

