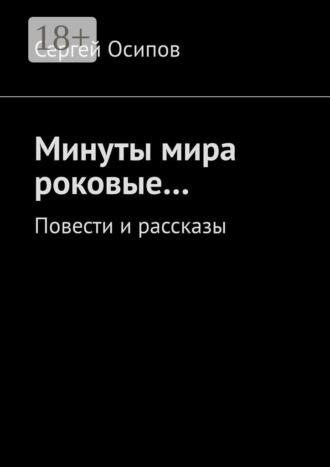
Полная версия
Минуты мира роковые… Повести и рассказы
В губах римлянина тенью грустной надежды промелькнула и вновь исчезла улыбка:
– Ты уверен, что оно ничему не подчинено? Чем дальше мы идём, чем сильнее укрепляется наша гражданская община, тем с меньшей вероятностью я ошибусь, предполагая, что думает тот или иной гражданин по тому или другому поводу. До Цезаря люди, просыпаясь утром, могли в известных пределах по-разному называть день, в который они входят. Путаница календаря давала им эту свободу. В результате важные сделки не могли быть заключены, договоры подписаны, люди с трудом понимали друг друга именно потому, что были свободны думать об одном и том же по-разному. Но вот, Цезарь – великий понтифик, он предлагает реформу календаря. Свобода ограничена, но чем? Истиной. Благодаря этому мы можем договориться хотя бы о времени встречи. В дальнейшем, когда истина ещё более ограничит названную тобой свободу, люди смогут договориться о большем: о боге и душе, о религии и вере, упразднят рабство, разделят богатства, уничтожат другие различия – наступят мир и безопасность, и всё – благодаря ограничению свободы, то есть произвола, чертой Истины.
Треск факела, внесённого рабом в залу, заставил собеседников повернуться к двери. Их лица, лишившиеся при этом теней, стали на мгновение похожи на маски. Раб воткнул рукоять факела в кольцо на стене и удалился.
– Послушай, Тронций. Вот, ты говоришь: мир во всём мире, нет ни бедных, ни богатых, нет ни рабов, ни тех, кто ими владеет, ни лачуг, ни дворцов. Но что тогда заставит раба жить, как не мечта хотя бы во сне увидеть себя свободным, что заставит господина забыть о страхе смерти, как не боязнь стать рабом? И если будет только одна Истина, разве не увидим мы себя падающими в её бездонную тьму? Никто не знает, зачем мы живём, но каждый не знает это по-своему. Так бессмыслию придаётся различие, отличие от себя самого, так оно переходит в смысл! Только разнообразие, существующее в жизни, делает её достойной внимания! Если бы все были равны, то наша жизнь была бы жизнью одного человека. Но никто: ни мудрец, ни раб, ни богач, – один – не имеет смысла. Смысл каждого – в отличии от другого. Кажется, движение стремится уничтожить это отличие, но одновременно оно совершает и нечто большее – творит Дух.
Сцепий встал с ложа. Огромная тень, брошенная факелом на противоположную стену, легла и на Феодора:
– Ты прав во всём, кроме последнего, но последнее и сам не понимаешь. Я думаю, не случайно. Ты и не хочешь понимать всего. Тебе так удобнее: оставить место для волнующих своей непонятностью слов «свобода», «дух», «движение». Я тоже не понимаю всего, но не потому, что не хочу, а не могу. Здесь мы расходимся, будучи союзниками в остальном. Ты стремишься назвать человека счастливым – я стремлюсь сделать его таким. И поэтому сначала указываю, в чём несчастье, трагизм существования человека. Человек несчастен оттого, что смертен и знает об этом, знает, что он умрёт. Есть два пути преодолеть трагедию. Сделать так, чтобы человек не знал, что он смертен, или, по крайней мере, не помнил об этом, отвлёкся созерцанием различий, о которых ты говорил. Это твой путь, но это путь обмана. Различия – маски Смерти, созданные Ею, чтобы Человек забыл о Ней и не угрожал Ей. Я выбираю другое: срывать эти маски, уничтожать различия, пока не останется одно, последнее и главное: различие между живым и мёртвым. Я верю: человек преодолеет и его, если не будет отвлекаться на несущественное. Герой древности, не отвлекаясь на меняющиеся лики Протея, сумел выпытать у старца тайну. Так и человек должен выпутать из лжи преходящего тайну сути, должен преодолеть смерть. Миссия человека будет тем завершена, он перестанет быть смертным, сознающим свою смертность: настанет пора осознать бессмертие.
Немного помолчав, словно разглядывая что-то в пламени факела, римлянин продолжил:
– А пока мы не живём, а только рождаемся. Было бы смешно, если младенец в момент появления из чрева матери вдруг стал заботиться о цене окружающего мира и своего появления в нём. А мы ведь только появляемся на истинный Свет, только формируется в нас то, отголосок чего мы назвали сознанием. Как может зачаточное, едва завязавшееся судить мир? Вообще-то, может, но и суждения будут суждениями младенческими, с оскоминой скепсиса. Нам бы родиться! А потом можно и вокруг взглянуть пристальнее и увидеть, может быть, что мир – это не текст, который помимо своего непосредственного явления, грозного и прекрасного, должен иметь ещё какой-либо смысл.
– Ты хорошо сказал, ты удивительно сказал, Тронций, – Феодор в волнении заходил по комнате, вскидывая руки. – Именно! Так и есть: весь мир и наша жизнь в нём – это два текста, два письма. Сначала мы читаем текст Пославшего нас, изучая мир и пытаясь постичь его, затем, и даже одновременно с этим, вписываем, вплетаем свою жизнь, как новую, почти незаметную строчку в полученное при рождении грандиозное послание.
– Ты неисправим, Феодор, – римлянин улыбнулся светло и мягко. – Ну, пусть два письма, если тебе так нравится. Только нет в этих письмах ни одной буквы, не написанной человеком…
5.
Унылые лучи низкого холодного солнца медленно текли над розовым ковром долины. Старая мощёная дорога вся была в утреннем инее, и там, где сквозь щели между каменными плитами проступал жёлтый песок, казалось, мёд мешался со снегом. Рощи лимонных деревьев проплывали совсем близко, и в съёжившейся листве можно было иногда увидеть фонарик неубранного плода. Клодий ехал в сопровождении небольшой свиты. Маскировка отъезда из Рима была продумана до мелочей. Сегодня, по совету Тронция, воинственные толпы клиентов, не дожидаясь полдня, осадят дом сестры Публия, где, как всем известно, он пировал накануне, и потребуют от трибуна решительных действий. Настойчивость требований быстро перерастёт в наглость, настолько дерзкую, чтобы ни у Туллия, ни у приверженцев Катона не оставалось сомнений, что Клодий вынужден запереться в доме из боязни за свою жизнь. Пока действительность будет заслонена обманом, Пульхер втайне договорится о союзе с германцем и пообещает послу лугиев поддержку Цезаря при объединении племён к северу от Дуная. Это была обычная политика, убивающая двух зайцев. После победы над галлами и сенатом Цезарь и Клодий, как было давно решено, поделят дела в государстве и, устроив в нём всё по-своему, приготовятся сгореть в жертвенном огне кинжалов заговорщиков. Если же их не смогут или не захотят убить, то предоставится прекрасная возможность, взяв в руки стиль и таблички, объяснить потомкам свои дела, передать сомнения и мысли… Так же, как некогда Аппий Клавдий передал праправнуку Клодию дорогу, по которой тот сейчас едет.
Дорога соединила Рим с миром. Дважды она приводила к воротам города врагов, сотни раз по ней уходили легионеры и возвращались с добычей, рабами и вестью, что где они были, мир ещё не кончается.
«Поверил бы Аппий Клавдий, что его потомок, чтобы стать трибуном, даст усыновить себя плебею и заменит звучное родовое имя на обидно краткое – Клодий? А если бы поверил, то понял бы, простил? Вряд ли! Куда движется государство, в котором, чтобы стать первым, надо прежде стать никем? Или оно не движется? Прочно стоит на черепахах посредственности, уныния, лжи. Похоже на последнее. Но мы всё-таки заставим его вспыхнуть, чтобы падающие в сумерки грядущих столетий искры зажгли не одно сердце, спалили не один дворец».
Думая так или примерно так, трибун Клодий заснул в паланкине – сказались бессонная ночь и пиршество у сестры. Раб Феодор, сидящий рядом, вспоминал величественные картины, рисуемые Тронцием во вчерашнем разговоре, и поражался уверенности римлянина. «Эта уверенность сродни тупости. Всё-таки вино мистики лучше пресной воды здравого смысла. Оно не только всё собой заполняет, изгоняя страх, оно ещё и пьянит, побеждая скуку. С другой стороны, пусть такие люди, как Тронций, фанатическим трудом приближают чудо. Вдруг оно и должно свершиться через них? Пути чудес неисповедимы. Однако пора подумать о делах насущных. Мой господин спит, надо его разбудить. Анунций близко». Феодор проверил в дорожном ящике таблицы с текстом договора, продиктованного вчера Сцепием и слегка поправленного утром Пульхером.
– Публий, господин мой, проснись. Анунций совсем близко. Ты хотел ещё раз перечитать договор.
В час, когда клиенты в Риме должны были ломать скамьи о ворота дома Клодии, заставляя Туллия и приверженцев Катона ломать голову, что бы это всё могло значить, Пульхер открыл глаза после глубокого сна и почувствовал себя будто заново родившимся. Откинув полог паланкина, он увидел солнце в качающемся голубом квадрате и приказал Феодору остановить поезд. Римскому трибуну полагалось въехать в город в сопровождении двух ликторов верхом.
Умывшись, бегло просмотрев между глотками фалернского текст договора, Клодий махнул на него рукой и плавным, чётко очерченным движением поднялся в седло. Скачка! Она началась безудержная и пьянящая, с высокого холма в синюю дымку долины, где в центре, как мираж, превращающийся постепенно в город, рос, наполняясь деталями кварталов, повозок, одиноких деревьев, узких прорезей окон в домах, Анунций.
6.
– Беда, Туллий. Нас одурачили. Мы потеряли, по крайней мере, неделю, а может быть, и свои головы. Верные люди передали мне удивительные вести. Пока мы думаем, как вытащить из бунтующей черни трибуна Клодия, чтобы судить его по закону, Красавчик уже шестой день в Анунции. Он неразлучен с Алеборганом, живёт в одном доме с послом и совершенно очаровал его и его племянницу рассказами об объединении германских племён в одно государство. Можно догадаться, какие услуги он просит взамен. Это измена! Завтра же в сенате надо требовать у Помпея полномочий на арест Клодия, депортацию Алеборгана, снятие проконсульского звания с Цезаря и вызов последнего в Рим.
Мясистый нос Цицерона дрогнул, полные губы разжались, но сенатор не сразу нашёл, что ответить бледному Фабию, тонкие бескровные губы которого змеились в ярости.
– Ты не прав, Максим. Помпей никогда не согласится на такие полномочия. Он не захочет издавать законы против себя. Он и Цезарь – это две капли воды, а ты предлагаешь иссушить Цезаря лучами сенатского гнева. Необходимо придумать что-нибудь другое и обезвредить Клодия, не прибегая к помощи Магна.
– Что ты предлагаешь, Марк? – овладевший собой Фабий задал вопрос, старательно растягивая слова, как при декламации гекзаметра.
– Я не сторонник необратимых действий. Тем более не хочу быть их причиной, как и жертвой результата впрочем. – Цицерон говорил всё более и более уверенно. – Когда десять лет назад Катилина в ярости покинул Город, чтобы найти гибель где-то в горных проходах Этрурии, я, вопреки общему мнению, не изгонял его силой, ибо силы у меня ни тогда, ни после не было. Я лишь создал условия, чтобы Катилина ушёл, не мог не уйти в силу собственных своих черт и заблуждений. Если бы он остался, то перестал быть Катилиной, то есть разбойником и свободолюбцем, и тогда бы он не погиб. Создать условия! Это же я предлагаю и сейчас. Такие условия, чтобы Клодий не смог вернуться в Рим из Анунция. Как это сделать? У нас есть Милон. Милон завидует Клодию и ненавидит его. Из-за этого и из-за того, что Клодий наш враг, Милон – наш временный друг. Я не убийца, Фабий. Я не скажу Милону: «Убей Клодия!» Нет. Я предпочитаю сделать так, чтобы это произошло само собой или не произошло вовсе, но чтобы тогда Клодий перестал быть опасным. Он выехал незамеченным, его клиенты в Риме немало дурачили нас, ломая комедию и скамейки. Значит, Пульхер в Анунции с небольшой свитой, почти что один.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Вы говорите по-немецки, прекрасная девушка?





