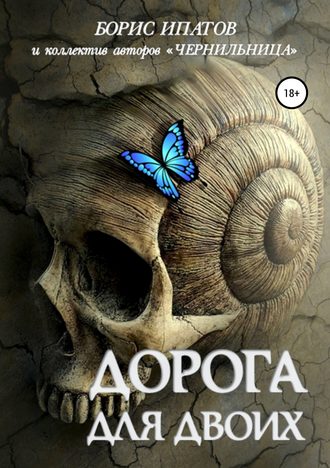 полная версия
полная версияДорога для двоих
– Говори со мной! Слышишь? Не отключайся!
Легче сказать, чем сделать.
Из-за постоянных провалов Индра уже давно и безнадёжно потеряла счёт времени. Каждый раз, приходя в себя, она видит одну и ту же неменяющуюся картину: серое, бессолнечное небо над головой, багровое от натуги лицо мужчины, волокущего свои сани сразу за ними, и девственно-белая равнина со всех сторон, куда ни взгляни.
Сколько же часов, сколько бесчисленных дней уже длится их бегство?
– Только попробуй у меня там умереть! – твердит снова и снова Арьяман, словно заевшая пластинка. – Напрасно, что ли, я тебя столько тащил на своём горбу? Только попробуй! Не поленюсь ведь, найду тебя в следующем Цикле и спрошу за всё в полной мере!
– Ради… всего… святого…
– Что? Что ты говоришь?
– Заткнись…
…каштановые волосы, изящные, аристократические запястья, узкие губы. Стройная и вытянутая фигура.
– Ты настоящая. Я знал! Знал, что ты мне не привиделась! – бормотал Андре, заворожённо любуясь её удивительной, нездешней красотой.
– Здравствуй, Андре. – Её синие, тёплые глаза смотрели будто внутрь него, в самую душу. Пальчики рассеянно теребили кисточку на шарфе. – Милый Андре.
Обрыв, на котором они устроились, густо порос сиренью. Лес внизу напоминал пену на гребнях морских волн.
– Откуда ты знаешь моё имя?
Девушка захихикала – и ночной воздух точно наполнился перезвоном крохотных бубенчиков.
– Мы ждали тебя, Андре. Мы молили Лес о помощи, и он привёл к нам тебя.
– Я не понимаю…
– Гляди, гляди! – воскликнула девушка, указывая куда-то вверх. Андре проследил за её тоненьким пальчиком и успел увидеть, как у самого горизонта небосвод расчертила стремительная серебристая линия. Расчертила – и канула в пенистое море деревьев. – Ещё одна звезда упала! Ты успел загадать желание?
Андре потерянно покачал головой.
– Жаль. Знаешь, звёзды падают в Лесу уже много сотен лет, но ничьи глаза не видят этого. Некому насладиться их последним танцем. И они растворяются в земле, прорастают, тянутся обратно в небеса новыми деревьями, и по ночам, если прислушаться, можно расслышать, как в их корнях, в их коре, в их листве поёт скопившаяся за века звёздная магия.
Незнакомка смолкла и зажмурилась, будто бы внимая этой загадочной магической музыке, но Андре, сколько ни вслушивался, так и не смог различить ничего, кроме самых обычных звуков ночного леса – скрипов, шорохов и перекликающихся голосов местной живности.
– По крайней мере, так было, пока не пришёл Мо. Он принёс с собою много желаний, и изголодавшийся по ним Лес принял его с радостью. Мо построил Дом, стал его Хозяином, и очень долго всё было хорошо. Но потом он покинул нас. У Дома не стало Хозяина. Некому стало слушать магию. Некому загадывать желания.
Андре поймал себя на том, что слушает девушку, изумлённо разинув рот. Она склонилась к нему и погладила по щеке нежнейшей ладонью.
– У нас мало времени, Андре! Луна идёт на убыль, а вместе с нею убывает и наша сила. Очень скоро мы уснём и больше не сможем защищать Дом. Помоги нам!
– Но как? – спросил Андре. – Чем помочь? Что я могу сделать?
– У Мо был Ключ. Он наверняка до сих пор где-то в Доме. Тебе надо лишь найти его и вставить в замочную скважину, и Дом тотчас же признает тебя новым Хозяином.
Смысл последних слов девушки дошёл до Андре не сразу, а когда это всё-таки произошло, тот едва не поперхнулся. «Хозяином? Но позвольте, ведь я здесь проездом и отнюдь не нуждаюсь в недвижимости! Во всяком случае, уж точно не в такой глуши», – собрался было возразить он, но незнакомка неожиданно придвинулась ближе, блеснув слезой на щеке.
– В клумбах будут цветы, много цветов! А над входной дверью мы повесим колокольчик, – шепнули её губы. – Найди Ключ, найди его для меня, милый Андре! – прозвенело почти у самого уха.
Желание поцеловать её кипело внутри, но девушка уже отстранилась, встала и пошла по аллее, освещённая бледными остатками луны.
Не помня себя, Андре бросился вслед, от обрыва в сторону прогалины. Но девушка исчезла. Пришлось вернуться к дому. Уже у самой входной двери что-то заставило Андре обернуться. Чёрные листья изгороди проросли в одном месте цветами сирени. Поддавшись необъяснимому желанию, постоялец подошёл к ней и бездумно сорвал один цветок. О, кто же эта незнакомка?
Уши уловили тихий стон из-за листвы. Руки сами собой раздвинули сплетение веток.
На полянке перед домом трясло пустыми рукавами пугало, одетое в сиреневое платье. На улыбку, вырезанную на деревянном лице, упал тусклый луч редеющего полумесяца. Глаза, намазанные синей краской, словно смотрели на Андре с мольбой. Подуло, и колокольчики зазвенели сильнее, а пугало, проскрипев, неловко повернулось на длинном шесте, как живое. Вся поляна была усеяна сиренью.
– Помоги, Андре! Милый Андре! Динь-динь-динь! Поцелуй, Андре! Только ты! Сейчас!
– Но ты не более чем старое пугало на поляне! – проговорил Андре. Мурашки так и ползли по его спине. А может, это холодный ночной ветер забрался под воротник и водил по спине ледяной ладонью?
«Сумасшедшие! Все здесь сумасшедшие! Или это я схожу с ума?»
На ватных ногах постоялец бросился к дому, стараясь не шуметь. По дороге он, однако же, умудрился сшибить стремянку, прислонённую к стене. Как он мог её не заметить! Замирая от каждого скрипа, даже не дыша, он прокрался в свою комнату. Лечь и уснуть? Успокоится ли сердце?..
Из зыбкого небытия Индру выдёргивает раскат грома. «Нет, не грома», – понимает она сразу же, как только сознание её проясняется окончательно. Это выстрелы.
Вся колонна замирает. По ней проходит волна испуганного ропота. Люди начинают озираться, высматривая источник звука, и вскоре замечают его. По склону высокого снегового наноса, который они одолели минут пять назад, сбегает крошечная чёрная фигура. За нею – ещё одна. И ещё. Вот их уже не меньше десятка, и все мчатся вниз, вопя, улюлюкая и время от времени выпуская в небо автоматные очереди.
– Непробуждённые! Это Непробуждённые! – кричит кто-то. – Спасайтесь, несчастные! Бегите!
Этот крик выводит людей из прострации: позабыв о своих ранах и усталости, они срываются с места и бегут чуть ли не вдвое быстрее прежнего. Арьяман уже не пытается тянуть сани плавно, теперь он летит вперёд на всех парах, так что Индре чудится, будто её тащит не человек, а целая оленья упряжка. Пули свистят у них над головами, но ни одна не попадает в цель. Промахнуться с такого расстояния по мишени, движущейся напрямик, – задачка не из простых. Либо стреляющие слепы, либо…
Не успевает Индра подумать об этом втором «либо», как с противоположной стороны узкого ледяного разлога возникает ещё одна группа вооружённых людей. Капкан захлопнулся.
Осознав безысходность своего положения, большинство бегущих останавливается. Двое или трое самых отчаянных пытаются с наскоку штурмовать боковой склон, однако он оказывается слишком крутым и скользким. Будь они налегке – может, и вырвались бы, но тяжёлые сани с ранеными увязают в снегу и влекут вниз.
Непробуждённые приближаются с двух сторон, подобно зубам медленно смыкающихся челюстей. Все – мужчины. Угловатые обветренные лица утопают в косматых бородах. Комбинезоны поношены и многократно перештопаны. Даже автоматы, дула которых хищно смотрят на беглецов, кажутся ужасно старыми. Удивительно, как они вообще до сих пор стреляют.
Один из мужчин – судя по всему, их вожак – выступает вперёд, смачно сплёвывает на снег и произносит что-то на Младшей Речи. Индра мало что понимает: смысл сказанного теряется в потоке ругательств. Впрочем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, чего он хочет.
Навстречу ему выходит пилот.
– Прошу вас, – начинает он дрожащим голосом. – У нас есть раненые. Им нужна срочная помощь. Прошу вас…
Вожак пристально смотрит ему в глаза. Затем снова что-то говорит, и голос его звучит всё настойчивее.
– Я не понимаю ни слова, простите, – отвечает пилот. – Поглядите сами. Эти люди истекают кровью. Если мы не доставим их в город как можно скорее, они…
Не давая ему закончить, вожак бьёт его прикладом под дых. Со странным звуком, похожим на свист сдувшегося мяча, пилот складывается пополам и оседает на колени. С минуту он бессильно корчится в снегу, пытается ловить ртом воздух. Вожак тем временем выкрикивает ещё несколько фраз, обращаясь уже ко всем беглецам. Взмахивает рукой, приказывая следовать за ним. Все стоят, как вкопанные. Тогда их подгоняют сзади, разрядив пару очередей в снег под ногами.
Лишь после этого колонна сдвигается с места.
…Вдруг его внимание привлёк странный звук. Что это? Шорох?
Андре понял, что звук доносится из коридора. Перепрыгнув через свой ещё не распакованный саквояж, он выскочил из комнаты. В кромешной тьме он различил чью-то рослую фигуру. Верзила как раз обыскивал сервант у входа в мастерскую Мо, зажав большой серой ладонью ящик с инструментами, рыча и глухо ругаясь. Его нелепая зелёная шляпа валялась в углу, почему-то хорошо видимая во мраке.
– Кто здесь? – фыркнул верзила и оскалился. – А, ещё один истукан! Убирайся туда, откуда пришёл, дубовая башка! Тут всё моё! Сгинь прочь!
Широко размахнувшись, он обрушил свой громадный кулак на голову Андре, метя в висок. Удар был таким сильным, что наш несчастный герой отлетел к стене, как тряпичная кукла, и упал на колени. Неприятель, впрочем, явно не был намерен на этом останавливаться. Андре уже весь сжался, когда тот занёс лапищу для нового удара, но дылда вдруг замер.
– Это что у тебя такое? Кровь? – Великан, казалось, опешил. – Погоди-ка, так ты, выходит, живой? Не из этих, деревянных? – Он неопределённо махнул головой куда-то в сторону.
Андре боялся шевельнуться, не говоря уже о том, чтобы что-нибудь ответить. Да и как отвечать, когда не понимаешь ни единого вопроса! Не дождавшись внятного отклика, верзила схватил его за ворот рубашки и грубо вздёрнул вверх.
– Слушай сюда, дурень, и слушай внимательно, дважды повторять не буду! Чего бы эти деревяшки тебе ни наплели, не верь им! Они всё лгут! Мой тебе дружеский совет: уноси ноги из этого проклятого места, пока они у тебя ещё есть. Иначе кончишь, как чёртов старикан Мо, мир его праху!
В этот момент верзила повернул голову и настороженно прислушался. В мастерской Мо что-то шевелилось. Заскрипела, медленно отворяясь, старая дверь.
И залаяли собаки!
Темнота в доме внезапно ожила, наполнилась сверкающими глазами, острыми зубами, лаем, рычанием. Темнота кусала и гнала неповоротливого гостя прочь. Он отпустил свою жертву, скатился по лестнице и, взвизгивая, бросился наутёк. Андре казалось, что взъерошенные хвосты, клыки и мокрые языки собак появлялись прямо из ниоткуда. И были ли собаки?
Андре упал лицом в ковёр, и сознание его помутилось…
Они идут дальше, как будто ничего не произошло. Единственное, что изменилось – теперь их сопровождает сумрачный конвой, но на него они стараются не обращать внимания. Это легко. Непробуждённые молчаливы. Только изредка покрикивают на отстающих и подбадривают их тычками в спину.
Боль Индры понемногу начинает отступать. Блекнет, пока от неё не остаётся только призрачная тень где-то глубоко под рёбрами. Наверное, это плохо. Арьяман всё чаще оглядывается на неё через плечо, и с каждым разом взгляд у него всё более обеспокоенный. «Должно быть, я уже выгляжу, как мертвец», – криво усмехается Индра собственным мыслям. Может, оно и к лучшему – умереть сейчас. По крайней мере, это станет избавлением от того, что уготовили им Непробуждённые.
Но минуты сменяются часами, а смерть никак не приходит. Всё по-прежнему.
Белая пустошь всё так же бела.
Краснолицый мужчина с санями всё так же натужно пыхтит сзади.
Холодное небо неизменным серым потоком стекает за линию горизонта.
ИНДОНЕЗИЙСКАЯ НОЧЬ (автор – Юлия Рогозина)

Кто бабочкой к яркому пламени льнёт —
На войско огня в одиночку пойдёт:
Пусть миг проживёт лишь, огонь полюбя, —
Отдав оболочку – получит себя.
Низами Гянджеви
Холодное индонезийское небо серым потоком стекало за линию горизонта. Тяжёлые вытянутые капли, как расплавленный свинец, идеально вливались в длинные зелёные листья, но, в конце концов, под тугим напором заставляли их гнуться и выворачиваться наизнанку. Шум приносил почти физическую боль. Старый выцветший блангкон6 ненадёжно закрывал чересчур выпуклый череп Аан-Дармы. Голые ступни колола высохшая трава и мелкие камни. Мельчайшие занозы он уже даже не чувствовал. Дарма привык. Дарма исполняет долг, как велит ему его имя7.
Говорят, в именах кроется предначертание судьбы. Так почему же Кахья не назвала его Агунгом? Почему не позволила быть Великим? Почему звук гонга отдается так гулко, почему его даёт не он? Почему для него? Почему не Агунгом?
Хочется спать, найти навес и спать, чтобы зеленые полосы перестали сливаться перед глазами и качать его, как одурманенного, чтобы гонг не бил по ушам так громко и больно. Но воспоминания о широкоскулом лице матери и её тёплой груди отдаются резью в глазах. Её собственное имя сочится пронзительным Солнечным Светом. Круглобокое печёное солнце сушит губы, они трескаются, расползаются змеями, создают убогий лабиринт, тупик, бездну, из бездны растёт тростник, тело обвивает стебель, руки сплетаются, пальцы расходятся, становятся длинными и тонкими, зелёными и ломкими под свинцовыми каплями дождя. Но это кажется, только кажется, а солнце ехидно палит и даже рваный саронг8 кажется Аан-Дарме лишним.
«Почему Кахья не назвала меня Бимой? Почему отказала в праве стать Мужем, Мужественным? Почему я никогда никем не был любим? Зачем этот саронг? Агунг носит шаровары на персидский манер».
Но Аан-Дарма вспоминает сурьму на бровях Кахьи, её чёрные брови стреляют в небо, и изогнутый марабу улетает прочь, чтобы не унаследовать судьбу Дармы. А пальцы-листья-растут-тянутся-ввысь-за-чёрными-перьями-птицы-сами-оперяются-становятся-толще-на-глазах-солнечная-сетка-и-земля-становится-сеткой-и-тростник-изнывает-от-жары-жалобно-скрипит-плачется-Дарме-и-Дарма-плачет-свинцовыми-слезами-и-сетка-затягивается.
Под полуденным солнцем слышно, как каждая тростинка вытягивается, растёт, шуршит своим тельцем. Листья гипнотизирующе покачиваются от малейшего дуновения ветерка. Корни надёжно прорастают в землю, чтобы через несколько месяцев стать ненужными. Кольца на гладком стебле отмеряют срок.
Аан-Дарма смотрит на этот сахарный лес, и глаза его слипаются. Тело качается в такт, руки тянутся вверх, прокладывая путь сквозь этот нескончаемый зелёный поток, хлещущий со всех сторон. Аан-Дарма помнит, что он – Дарма. Берёт мотыгу, и сочная земля усеивается мёртвыми сорняками. Лес шепчет слова благодарности. Дарма всегда на посту. Аан где-то с ним, внутри.
Пост Дармы, как и всё вокруг, кажется вечным, и только отдыха никогда нет. Когда Дарма не спит, в сиреневом свете сумерек тростник становится похож на воинов с тысячью копий; он колет, слепит, преграждает путь, и никак не прорваться сквозь эти сцепленные зелёные пальцы-копья – даже если бы Аан хотел.
И днём и ночью явь на Яве расплывается в жаркий мираж, земля вибрирует, тростник танцует, обжигающе меткие солнечные лучи словно пищат, лунный свет осыпается звоном серебра. А серебро сыплется на соседнюю новую плантацию в тридцать два гектара, о существовании которой Дарма даже не подозревает, но хозяин которой знает о тысяче таких, как Дарма, у себя и за оградой.
В одну из красивейших опаловых ночей на поле, которое в этот раз сторожил один только Дарма и миллионы тонких воинов с миллиардами копий, с соседней плантации по наущению хозяина проник Насиб9 с огнём в руках. Он двигался как тигр, медленно, тихо, хищно, играя молодыми мускулами спины, и чёрно-рыжий хвост вилял за ним, превращаясь в невероятно длинную огненную змею.
Аан помнил, как в детстве напуганная Кахья с другими женщинами уговорила мужчин привести в их маленькую деревушку дукуна. Мужчины долго кричали на глупых и суеверных женщин, но, в конце концов, сдались. Никого и ничего страшнее дряхлого шамана с деревянным жезлом, увитым непонятными символами, Аан до сих пор в своей жизни не видел. Но после этого лелембуты и правда исчезли, урожай перестал засыхать, скот – умирать, дети – кричать по ночам, жить в деревне стало спокойнее. Аан до сих пор хранил страх к одному из увиденных в детстве злых духов – он был почти бесплотным, но от него исходило хоть и слабое, рассеянное, но адское сияние, похожее на языки и искры пламени.
Когда Дарма увидел над тростником несвоевременно появившееся зарево, он вспомнил свои детские видения, и оцепенел, не зная, как бороться с лелембутами, если нет ни длинной седой бороды, ни изрезанного письменами посоха.
Быстрая бабочка, прозванная в этих краях Тинтой – Любовью, сверкнув красным перед его глазами, неслышно опустилась на запястье – на то самое место, которое почему-то так любила гладить его мать. Бабочка принялась порхать вокруг его руки, движения её стали беспокойными, беспорядочными, безумными. Аан-Дарма оторвал от неё взгляд и посмотрел вдаль, на нараставшее сияние. Странный шелест и всё явственнее слышимые потрескивания вселяли в его душу противное липкое чувство. И над головой его взвился ослепляющий и яростный пожар.
Теперь они бежали с ним наперегонки. Огонь трещал, Аан-Дарма кричал. Пламя стелилось уже не тихой змеей, но взвивалось драконом. Человек бежал уже не как старик, но как леопард. Земля плакала, тростник стонал, гнулся и выворачивался, вертел листьями, пытался закутаться, но затихал чёрным и неподвижным.
Люди высыпали под открытое небо, таскали воду, ставили заслоны, в бешеных глазах их отражалось завтрашнее утро и белый хозяин… И полбеды, если бы сгорела только часть тростника, но безумец Насиб успел добежать до хранилища, и вспыхнули мешки с мельчайшими песчинками сахара. Тысячи запахов смешались воедино: тонкий аромат ночи поглотил тяжёлый дым горевших зарослей, растворились друг в друге людской пот и грязная речная вода, измученные лица жаром обдавало горящее дерево – бывшие стены хранилища, и во всём этом сумбуре приторно-сладкой нотой плавился сахар.
Столько лет Аан-Дарма мечтал почувствовать вкус карамели на языке – такой неизвестный, такой запретный, такой манящий, но не для сына бедняка предназначалось это лакомство. И вот теперь всё горело, всё рухнуло в один миг, но Аан-Дарма не почувствовал полного ужаса наступившей катастрофы. Когда другие задыхались от гари и дыма, Аан-Дарме было легче – он не умел чувствовать запахи.
Мир его не был от этого менее ярким или полным. Что значит всего лишь не ощущать запахи, когда вся жизнь твоя и без того горька? Разве не легче так переносить всю эту горечь, не чувствовать её в полной мере; не знать, как пахнет немытое тело, как воняют бараки бедняков, как мутит от подгоревшей еды. Жизнь Аан-Дармы не делилась на до и после: если не знаешь и не имеешь чего-то с рождения и главное – даже не подозреваешь о существования этого, – разве будешь об этом плакать и жалеть?
Наутро разгневанный хозяин нашёл свою плантацию практически мёртвой. Только Дармы не нашёл. Через два часа поисков о старом рабе забыли, решив, что его покарал огонь, и, может, втайне даже завидуя такой лёгкой участи, отправились к дому хозяина, чтобы предстать перед его огненно-змеиными глазами, железной рукой и жалящей плетью.
* * *
Тяжело и приторно пахли тропические цветы. Свежий аромат росы поднимался с зелёных трав. Теплом пахнуло из загонов. Нежный и сладковатый запах парного молока доносился из дома на холме. Горячо, аппетитно и уютно пах мягкий хлеб. Мужественный запах перца и мускатного ореха в страстном поцелуе сливался с женским ароматом жасмина и мускуса. С кухни доносился тонкий запах жжёного сахара, дети в ярких шёлковых одеждах лизали карамель.
Запах ядовитых растений, исходящий от Тинты, невидимым коконом защищал Аана от мира. Аан шёл неизвестно куда и неизвестно зачем. Путь его был полон красок и звуков.
Интерлюдия IV: ЗАБВЕНИЕ (автор – Борис Ипатов)
Щёку обжигает увесистая затрещина. Следом – ещё одна.
Веки кажутся неподъёмными, словно, пока Индра лежала без чувств, какой-то шутник подвесил к ним свинцовые гирьки. Тем не менее, хоть и ценой огромных усилий, ей всё-таки удаётся распахнуть глаза.
Нависший над нею Арьяман вздыхает с облегчением.
– Хвала всему сущему! Я уж было подумал, что ты сдалась!
– Ты… ударил меня… – По шёпоту Индры трудно угадать, вопрос это, упрёк или простая констатация факта. И всё же этого почти невесомого вздоха хватает, чтобы Арьяман мгновенно залился краской.
– Прости. Мне показалось, ты перестала дышать, и я… испугался.
Из-за чего он так переживает? Глупо страшиться смерти тем, для кого её не существует. Для таких всегда сыщутся вещи похуже.
– Где мы?
– Кажется, это их лагерь. По крайней мере, здесь мы остановились.
Это место напоминает небольшой внутренний двор. Некогда он, верно, был обнесён кирпичной стеной и аккуратно закатан в асфальт, но теперь от стены остались лишь торчащие тут и там полуобвалившиеся огрызки, а асфальт, если и сохранился, то погребён под несколькими метрами спрессованного наста и ледяной корки. Пленники стоят, сбившись в кучу, у фасада древних руин. Продолговатое здание врыто в снег по самые ноздри. Кровля его, не выдержав напора стихии, давным-давно просела внутрь и мимоходом снесла пару этажных перекрытий. Только каким-то чудом постройка не сложилась, как карточный домик. Мёртвые, пустые её глазницы взирают на копошащихся у её подножия людей с поистине озимандиевской10 надменностью.
В это время всё новые и новые Непробуждённые выходят из развалин – серые, как привидения, – чтобы поглазеть на добычу соплеменников. Среди них немало женщин и детей. Последние в неуёмном своём любопытстве готовы подойти к пленным едва ли не вплотную, и только предостерегающие оклики взрослых удерживают их на расстоянии.
Внезапно гомон стихает. Все расступаются, пропуская вперёд мужчину в видавшей виды мешковатой стёганке защитного цвета. У него нет левого уха. На его месте – уродливый неровный обрубок. «Холод, – догадывается Индра. – Прожорливое маленькое чудовище». Холод оставил свои метки и на других Непробуждённых: у кого-то не достаёт пальцев на руках, кому-то он изглодал лица, а у иных отхватил целые конечности. От подобного зрелища берёт оторопь.
Не дойдя до ближайших пленников пару шагов, корноухий останавливается и обводит их долгим стылым взглядом. Так охотник смотрит на дичь, прежде чем взяться за её свежевание – бесстрастно, оценивающе. Сзади к нему подходит вожак отряда, тот самый, что настиг их в пустоши. Долго что-то говорит. Видимо, докладывает, как прошла охота. Затем они обмениваются ещё парой фраз. Индре удаётся выхватить лишь отдельные слова, слишком уж быстра и неразборчива их речь. Кажется, они решают, что делать с ранеными.
Наконец оба замолкают. Корноухий твёрдым шагом направляется к саням с одним из пострадавших. Расстегнув свою куртку, он достаёт из-за пазухи что-то чёрное и приставляет к голове несчастного. Грохот вынуждает всех вздрогнуть.
Не успевает отзвук выстрела окончательно раствориться в воздухе, а безухий палач уже движется к следующим саням. Наводит оружие. Снова стреляет.
Никто не кричит, не плачет, не пытается ему помешать. Никто не молит о пощаде. Все просто стоят и смотрят. Разумеется, Индра понимает, что для убитых Пробуждённых это всего лишь конец одного из множества Циклов, и тем не менее какой-то части её сознания происходящее всё равно кажется сумасшедшим, чудовищным сном. Её пугает не смерть, нет. И не то, что человек может убить другого человека; в этом она и так никогда не сомневалась. Ужас в ней вызывает то абсолютное безразличие, та неколебимая, неживая отстранённость, с которой корноухий жмёт на спуск – снова и снова, снова и снова…
Он убивает только неходячих с самыми тяжёлыми травмами. Выстрел. Ещё выстрел. Ещё.
Они звучат, как шаги. Как неумолимая поступь рока, и Индра уже знает, что следующий шажок – её. Мужчина идёт к ней. Снег скрипит под его громоздкими облезлыми ботинками. Его взгляд так холоден, словно впитал в себя всю стужу этой бесконечной зимы. У Индры нет сил смотреть ему в глаза, и она зажмуривается. Пусть всё закончится побыстрее.

