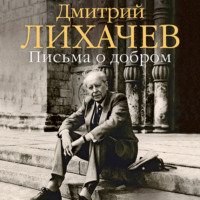Полная версия
Человек в литературе Древней Руси

Дмитрий Сергеевич Лихачев
Человек в литературе Древней Руси
© Д.С. Лихачев, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Вступительные замечания
Настоящая работа посвящена человеку в литературе Древней Руси.
В ней сделана попытка рассмотреть художественное видение человека в древнерусской литературе и художественные методы его изображения. Читатель не найдет в ней упоминаний «формы» и «содержания» как таковых, но вся она в конечном счете стремится к рассмотрению художественной формы в ее живом единстве с содержанием.
Человек всегда составляет центральный объект литературного творчества. В соотношении с изображением человека находится и все остальное: не только изображение социальной действительности, быта, но также природы, исторической изменяемости мира и т. д. В тесном контакте с тем, как изображается человек, находятся и все художественные средства, применяемые писателем.
Литература Древней Руси знала несколько стилей в изображении человека[1]. В основном они последовательно сменяют друг друга, но иногда существуют и параллельно – в разных жанрах, обслуживающих разные потребности общества.
Конечно, тот или иной стиль в изображении человека в совершенно чистом виде проявлялся более или менее редко. Исключения постоянны. Характеризуя тот или иной стиль, мы имеем в виду лишь преобладающие явления. Системы стилей постоянно нарушаются. В этом есть определенная закономерность; если бы не было нарушений стилистических систем, то не было бы и движения литературы вперед. Восстанавливая ту или иную систему стиля в изображении человека, мы стремимся прежде всего создать у читателя живое представление об этой системе, непосредственное ощущение стиля.
П. Я. Чаадаев писал: «Итак, вот наше правило: будем размышлять о фактах, которые нам известны, и постараемся держать в уме больше живых образов, чем мертвого материала»[2].
Читатель найдет в работе отсылки к произведениям живописи. Цель их – показать соответствия, существовавшие в изображении человека в литературе и в живописи. Эти соответствия позволяют во многих случаях глубже понять и отчетливее ощутить особенности того или иного стиля в изображении человека, но эти соответствия не следует абсолютизировать.
В иных случаях живопись обгоняет литературу и дает значительно более совершенные изображения человека, в других – литература опережает живопись. Всемирно прославленная живопись Андрея Рублева и его времени превосходит литературу тонкостью психологического анализа и глубиной проникновения во внутренний мир человека. Однако «оправдание человека» и открытие ценности человеческой личности, имевшие место в демократической литературе XVII в., не находят прямых соответствий в живописи того же времени. Наиболее полное слияние художественных принципов изображения человека в литературе и в живописи находим мы в монументальном стиле XI–XIII вв. Для этой эпохи характерен своеобразный полный синтез всех искусств: монументальная живопись (мозаика, фрески) подчинена формам зодчества, зодчество своими простыми поверхностями служит удобной основой для монументальной живописи. Письменность, в значительной мере рассчитанная для чтения вслух во время монастырских трапез (жития святых), для произнесения в храмах (проповеди, жития), для импозантного окружения княжеского быта, отвечает тем же потребностям, что архитектура и живопись, развивает общий с нею монументальный стиль в изображении человека.
Впрочем, соотношения литературы с другими искусствами требуют внимательного изучения. В данной работе они только намечаются.
Главы настоящей работы не следуют хронологии историко-литературного процесса. Книги не представляют собой истории изображения человека, хотя и должны давать материалы для этой истории, поднимая некоторые общие вопросы, связанные с изменением формы изображения человека.
Удобнее всего, оказалось, начать работу с перелома в изображении человека, с кризиса средневекового способа изображения человека, наступившего в начале XVII в., и вернуться к эпохе классического расцвета средневекового монументального стиля в изображении человека – к XI–XIII вв. Затем в работе следуют главы, описывающие отдельные стили и затрагивающие отдельные проблемы изображения человека.
Разнородность материала отчасти определила собой разнородность глав. Одни из глав посвящены крупным стилистическим системам, внутренне законченным и отразившимся во многих произведениях (таков стиль монументального историзма или эмоционально-экспрессивный). Другие главы касаются лишь элементов слабо проявившихся стилей (стиля эпического, стиля «психологической умиротворенности»). Естественно, что главы резко различаются по своему наполнению фактическим материалом.
Многочисленные ссылки на летописи и общеизвестные произведения, содержащиеся в книге «Человек в литературе Древней Руси» (1970), в данном издании опускаются.
Глава 1. Проблема характера в исторических произведениях начала XVII в.
В русской истории – в том виде, как она писалась дворянскими и буржуазными историками XIX в., – есть одно странное и вызывающее недоумение обстоятельство.
Сильные характеры и яркие характеристики этих сильных характеров возникают в изложении ее только с XVI в.
Это особенно ясно уже у Карамзина. Карамзин ставил себе одной из главных задач раскрыть читателю «характер наших древних героев». И при этом он признавался сам: «До сих пор (т. е. до XVI в.) я только хитрил и мудрил, выпутываясь из трудностей. Вижу за собою песчаную степь африканскую»[3]. Первым характером, на котором прерывалась эта «степь африканская» для Карамзина, был характер Грозного. В письме к А. И. Тургеневу он сообщал: «Оканчиваю Василья Ивановича и мысленно уже смотрю на Грозного, какой славный характер для исторической живописи! Жаль, если выдам историю без сего любопытного царствования! Тогда она будет, как павлин без хвоста»[4].
Казалось бы, Иван Грозный – первый сильный характер в изложении русской истории. За ним следует ряд других: Борис, Самозванец, Гермоген…
Ту же мысль – об отсутствии до Грозного ярких характеров в повествовательных источниках по русской истории – находим мы и у В. О. Ключевского: «Исторические памятники XIV и XV вв. не дают нам возможности живо воспроизвести облик каждого из этих князей. Московские великие князья являются в этих памятниках довольно бледными фигурами, преемственно сменявшимися на великокняжеском столе под именами Ивана, Семена, другого Ивана, Димитрия, Василия, другого Василия. Всматриваясь в них, легко заметить, что перед нами проходят не своеобразные личности, а однообразные повторения одного и того же фамильного типа. Все московские князья до Ивана III, как две капли воды, похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий»[5].
И у Ключевского, как и у Карамзина, яркие характеристики «древних героев» русской истории начинаются только с Грозного.
Вспомним, что и у других историков, и в исторической беллетристике, и в исторической драматургии, и в исторической живописи главные характеры, привлекшие наибольшее внимание ученых, поэтов, драматургов, беллетристов, художников, – это Грозный, Борис, Самозванец, Шуйский, Гермоген и т. д. Чем объяснить такое странное положение? Неужели и в самом деле сложные и сильные характеры появляются в русской истории только с половины XVI в.?
Как это было видно из приведенных слов Ключевского и как будет ясно из дальнейшего, многое в этом положении зависело от самих исторических источников. Это особенно ясно у Карамзина, который ставил себе главною задачей художественный пересказ древних источников. Однако и в других случаях, когда мы имеем дело с тем же «художественным» воссозданием исторической действительности (у Соловьева, у Ключевского), мы видим то же следование источникам, их характеристикам. Образы русских исторических деятелей второй половины XVI – начала XVII в. были подсказаны этими источниками главным образом «художественно». Поразительные по своеобразию характеристики, созданные в повествовательной литературе начала XVII в., воздействовали на всю историческую литературу последующего времени. Пересматривались факты, но не пересматривались характеристики. Критически взвешивались все сведения частного характера, но в обрисовке действующих лиц истории ученые и писатели нового времени долго оставались в плену у художественных образов, созданных авторами начала XVII в.
Начало XVII в. было временем, когда человеческий характер был впервые открыт для исторических писателей, предстал перед ними как нечто сложное и противоречивое[6]. До XVII в. проблема характера вообще не стояла в повествовательной литературе. Литература Древней Руси была внимательна к отдельным психологическим состояниям. Как мы увидим в дальнейшем, эта внимательность в XIV и последующих веках бывала иногда даже чрезмерной. Психологические состояния, отдельные человеческие чувства, страсти рассматривались со столь близкого расстояния, что они заслоняли собой самого человека, казались огромными, преувеличенными и не связанными друг с другом. Жития, хронограф, религиозно-дидактическая литература описывали душевные переломы, учили о своеобразной «лестнице страстей», о саморазвитии чувств и т. д. Этот интерес к человеческой психологии диктовался теми особыми целями, которые ставила перед собой проповедническая и житийная литература. Громадный опыт изучения человеческой психологии не применялся к светским героям русской истории.
Жанровые разграничения в древнерусской литературе, как это мы увидим позднее, были настолько велики, что опыт одного жанра не скоро мог быть перенесен в другой. То, что казалось уместным при анализе психологии рядового грешника, рядового человека, служившего объектом церковной проповеди, или при анализе психологии святого, не сразу могло быть перенесено на лицо вполне светское – на русского князя, русского боярина, военачальника.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Здесь и в дальнейшем я говорю о стиле так, как говорят о стиле искусствоведы: в широком значении этого слова. Я говорю о стиле литературы, а не о стиле литературного языка. Последний входит в первый как часть.
2
Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо третье // Гершензон Μ. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление СПб., 1908. С. 255.
3
Погодин Μ. Н. Μ. Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Μ., 1866. T. II. С. 87 (письмо из Парижа 1790 г.).
4
Погодин Μ. Н. Μ. Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Μ., 1866. T. II. С. 119.
5
Ключевский В. О. Курс русской истории. Μ.; Пг., 1923. Ч. II. С. 58–59.
6
Мысль об открытии человеческого характера в литературе начала XVII в. была впервые высказана О. А. Державиной в статье «Анализ образов повести XVII в. о царевиче Димитрии Угличском». Приведу полностью высказывание О. А. Державиной. Говоря о размышлениях дьяка Ивана Тимофеева по поводу характера Бориса Годунова, О. А. Державина пишет: «Такое размышление над характером человека (мы встречаем его в зачаточном виде и у других писателей начала XVII в.) – большая новость в древней русской литературе, где личность обычно была выразительницей божественной воли или сосудом дьявольским. Правда, у писателей XVII в., рядом с этой новой чертой, почти всюду мы читаем и ссылку на сатану, врага рода человеческого, который влагает злые мысли в голову Бориса, – так, новые черты сосуществуют рядом со старым традиционным, средневековым объяснением. Но все же появление этих элементов подлинной характеристики очень знаменательно. Оно указывает на растущий интерес к человеку как личности, к его индивидуальным, отличающим его от других людей, особенностям. В сложном образе Годунова древнерусский писатель впервые столкнулся с нелегкой задачей – дать характеристику живого человека, в котором перемешаны и хорошие и дурные качества, которого, как выдающуюся личность с ярко выраженной индивидуальностью, нельзя уложить в привычную схему. И надо сказать, что лучшие из писателей XVII в. справились со своей задачей неплохо. Мешало делу предвзятое мнение, с которым все они вольно или невольно подходили к личности Годунова, и та дидактическая цель, какую они себе ставили» (Учен. зап. МГПИ. T. VII. Каф. рус. лит.: вып. I. Μ., 1946. С. 30).