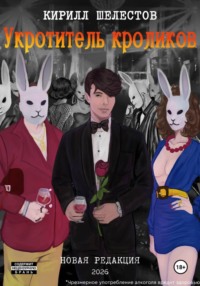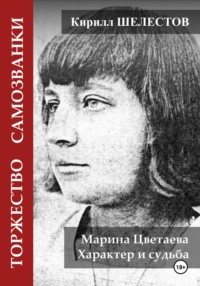Полная версия
Смерть Отморозка. Книга Вторая
Темнота постепенно рассеивалась, сменялась ровным серым сумраком; впереди на холме смутно проглядывали очертания дома. Последние два километра дорога поднималась круто вверх. Норов хотел прибавить шагу, но ноги уже не слушались, он и так отмахал километров девять.
Правый глаз почти совсем заплыл, он на ходу прикладывал к нему холодную поверхность телефона, чтобы уменьшить опухоль. Стареешь, Кит, раньше ты успел бы закрыться.
Между прочим, смешная история получается, Кит, а? Ты когда-то простил всю серперовскую шайку, этих гадких пиявок, которые тебя обворовывали и в благодарность едва не посадили. Ты из-за них провел месяц на нарах, нахлебался помоев, лишился работы, но простил. А любящую женщину ты простить не хочешь. Молодец, Кит! Вот это – по-нашему, по-норовски! Выгони ее к черту! И еще скажи что-нибудь обидное напоследок, чтоб лучше тебя запомнила! Только поторопись, а то вдруг она уже уехала.
Куда она уехала?! Как куда? Домой, Кит. К мужу и сыну, ты ведь сам велел ей убраться до твоего возвращения! Эй, Кит, постой! Куда это ты так припустил? Я за тобой не поспеваю. Куда ты мчишься, старый конь? Не «старый», а «гордый», умник. «Куда ты скачешь, гордый конь?». Да погоди же! Гордые кони так не летают, Кит. Вот как раз гордые и летают!
Глава третья
Анна и Гаврюшкин сидели за большим кухонным столом, не глядя друг на друга, и молчали. На тяжелом лице Гаврюшкина читалась не проходившая обида, уголок его рта болезненно подергивался; Анна была бледна и измучена. Видимо, все три часа, что Норов отсутствовал, прошли в упреках и ссорах, от которых оба устали. Перед Гаврюшкиным стоял нетронутый йогурт, который достала ему Ляля, и лежал нарезанный в тарелке сыр, – он ни к чему не прикоснулся.
На каменной кухне, продуваемой ветром из разбитого окна гостиной, было холодно и неуютно, включенный электрический радиатор не спасал от сквозняка. Анна зябко куталась в плед; толстый большой Гаврюшкин, сидя на высоком табурете, горбился. Он был в обтягивающем джемпере с низким вырезом, такого же фасона, что и у Брыкина, только черном. На открытой шее, заросшей черной щетиной, нервно катался кадык. Забытый впопыхах Норовым пистолет лежал на столе, ближе к Анне. Она прикрыла его бумажной салфеткой, – должно быть, он ее пугал.
Норов, запыхавшись, влетел на кухню, морщась от боли. Анна поспешно поднялась со стула, нервно сжимая пальцы и затравленно глядя на него, будто в ожидании приговора. Гаврюшкин вскинул черные, ненавидящие глаза. Норов, не снимая куртки, бросился к Анне.
– Прости меня! – выпалил он. – Прости, ради бога, старого, злого дурака!
Он схватил ее руки и принялся их целовать. Она сразу обмякла, тихонько всхлипнула и в следующую секунду, плача, уже обвила его длинными слабыми руками. Норов бережно усадил ее обратно на высокий стул и остался стоять рядом, чтобы она могла, не пригибаясь, прятать лицо на его плече. Она гладила его по затылку в шапке и по спине, прижималась щекой к его щеке и вздрагивала всем своим полным мягким телом. Его щека и шея были мокрыми от ее слез, он и сам ощущал комок в горле.
– Прости! – бормотал он ей на ухо. – Мне стыдно. Угораздило же тебя такого дурака выбрать!
– Ты не сердишься? – спрашивала она, отирая глаза тыльной стороной маленькой ладошки. – Ты больше не сердишься на меня? Я не переживу этого!
Оба на миг забыли о Гаврюшкине; но он был тут и напомнил о себе.
– Нор! – возмущенно взревел Гаврюшкин. – Ты че творишь?
Норов повернул к нему свое опухшее, лицо с мокрыми глазами, один из которых был закрыт красно-лиловой шишкой.
– Ты тоже меня прости! – с чувством произнес он. – Я кругом не прав перед тобой.
Гаврюшкин оторопело замолчал, но лишь на секунду.
– Ну и сука! – взорвался он. – Я так и знал, что ты какую-нибудь подлянку придумаешь! Да пошел ты на х.. со своим прощением! Аня, не верь ему! Это ж – змей! Он это спецом!
Он не мог ясно выразить обуревавшие его чувства. Анна, затихнув на плече Норова, не ответила.
– Сука, Нор! – бесился Гаврюшкин. – Я все равно тебя, гада, прикончу!
Норов, стараясь не потревожить Анну, протянул руку, нащупал выглядывавший из-под салфетки пистолет, и, не глядя, толкнул его по поверхности стола к Гаврюшкину.
– Прикончи, только отстань!
Гаврюшкин схватил пистолет, вскочил и через стол прицелился в Норова. Анна подняла голову с плеча Норова.
– Положи пистолет! – скомандовала Анна мужу спокойно и твердо.
– Ты едешь домой?
– Положи пистолет!
– Да или нет?!
Она не ответила.
– В последний раз спрашиваю?! – он угрожающе возвысил голос.
– Да перестань же! – воскликнула Анна.
– Тогда я убью его!
– Никого ты не убьешь! – сердито возразила Анна и снова опустила голову на плечо Норова. – Хочешь убить, обоих убей! Взрослый человек, а такую чушь несешь, слушать стыдно!
Гаврюшкин подумал и нехотя положил оружие на стол.
– За бабой спрятался, – мрачно заключил он. – Ну и кто ты, Нор, после этого? Сука, самая натуральная.
***Из Кривого Рога Сережа Дорошенко прибыл в Саратов зимой, с одним старым чемоданом, в высокой потертой ондатровой шапке-ушанке. Эта шапка сильно потешала охрану Норова, – в России таких не носили с советских времен. Когда-то они были признаком принадлежности к номенклатуре; позже их можно было увидеть лишь на пенсионерах. Кроме чемодана и облезлого символа коммунистической эпохи Сережа привез с собой жену и двухлетнего сына.
Норов помог ему снять квартиру и дал денег на обустройство. Ежемесячный оклад Сереже он назначил в 5 тысяч долларов, плюс проценты с прибыли. Это было гораздо меньше, чем получал Володя Коробейников, но по саратовским меркам, очень прилично, а по украинским и вовсе – целое состояние. Сережа был безмерно счастлив.
В дела он въезжал медленно и туго, со скрипом и пробуксовкой. В своих письмах к Норову он рассказывал о том, что занимался бизнесом, но бизнес его, очевидно, был каким-то случайным, мелким. Несмотря на все объяснения Норова, сути того, что делалось в фирме и чем ему предстояло руководить, он никак не схватывал. К тому же у него массу времени отнимали семейные заботы.
Жена его оказалась привередливой, прижимистой и неумной, ей не нравились снимаемые ими квартиры, а плата казалась слишком высокой; они часто переезжали с места на место. Ребенок, не привычный к суровой русской зиме, простывал и болел, Дорошенко искал ему хороших врачей и обзванивал всех знакомых подряд, спрашивая рекомендации. Он собирался вызвать с Украины в помощь свою мать, только что вышедшую на пенсию, но та не хотела ехать без мужа, Сережиного отца, тоже пенсионера. И Дорошенко, и его жена, не успев еще толком обжиться, уже строили планы по покупке собственного жилья и считали, сколько денег нужно для этого накопить.
Вся эта суета раздражала Норова и, видя его реакцию, Сережа в общении с ним бытовых тем избегал. Но с охраной и сотрудниками он постоянно советовался относительно своих проблем. До Норова это конечно же доходило, и он испытывал досаду, понимая, что житейская тина занимает Сережу больше, чем работа, и что с таким отношением к делу хорошим руководителем тот никогда не станет. По его мнению, Сереже вообще не стоило тащить с собой в Саратов жену и малолетнего ребенка; следовало сначала войти в курс дел, найти подходящее жилье, должным образом все подготовить, а уж потом вызывать семью.
Авторитетом у подчиненных Дорошенко не пользовался; в отличие от Володи Коробейникова, с которым они его постоянно сравнивали, он был некомпетентен и нерешителен, по каждому вопросу бегал за советом к Норову. Вскоре сотрудники тоже повадились ходить к Норову, – напрямую, минуя Дорошенко, – так получалось быстрее. Норова это лишь дополнительно сердило.
Дорошенко прозвали в фирме Пыжиком, – то ли из-за нелепой шапки, то ли потому что он безуспешно старался изобразить из себя дельного начальника.
***Гаврюшкин, никого не спрашивая, хмуро сделал себе большую чашку кофе и, морщась, выпил ее до половины, как горькое лекарство.
– Блин, даже сахара в доме нет! – проворчал он. – А туда же, строит из себя неизвестно кого!..
– Возьми шоколад! – еще раз предложил Норов.
Не отвечая, Гаврюшкин поднял на Анну черные трагические глаза.
– А как же сын? – с надрывом произнес он. – Значит, тебе уже на него наплевать?
– Как ты можешь так говорить?!
– Ты летишь со мной домой?
– Я прилечу сама…позже!..
– На чем? Самолеты в Россию уже не летают!
– Я найду способ.
– А что я скажу Леве? Что мама бросила его ради любовника?
– Это ложь! Ты этого не сделаешь! – гневно воскликнула Анна, вскакивая.
Гаврюшкин понял, что зацепил.
– Сделаю, не сомневайся! Пусть знает правду!
– Ты не способен на такую низость!
– Плохо же ты меня знаешь!
– Ты еще в пианино наложи, – посоветовал Норов. – Оно в гостиной стоит. Уж гадить так гадить!
– Заткнись, Нор! – огрызнулся Гаврюшкин.
Их перепалку прервал звенящий голос Анны:
– Если ты посмеешь сказать Левушке что-нибудь плохое обо мне, я заберу его и уйду от тебя навсегда!
– Не заберешь!
– Заберу.
Она стояла прямая, решительная, ее круглые глаза были сейчас светло-зелеными, прозрачными, как холодная талая вода.
– И я расскажу ему, наконец…
– Стой! – вскрикнул Гаврюшкин, не дав ей договорить. – Молчи! Не вздумай!
Похоже, он испугался.
***Первый большой провал случился у Дорошенко через месяц после начала работы. Крупные московские компании, имевшие рекламные договоры с газетой Норова, особенно те, в которых был иностранный капитал, отказывались сбрасывать деньги на «однодневки». Они настаивали на официальной оплате безналом напрямую. Эти средства Володя Коробейников обналичивал через фирмы своего приятеля, имевшего в Поволжье большую сеть магазинов по продаже электроники. Зачитывался он с приятелем рекламой, получалось взаимовыгодно.
Эту практику Володя как человек добросовестный, подробно объяснил Дорошенко, для чего даже специально прилетал на выходные в Саратов; он передал ему все координаты и проконтролировал из Москвы первую «обналичку». По завершении процесса Дорошенко заверил, что все понял и дальше справится сам.
Однако, когда он приступил к самостоятельным действиям, то допустил нелепую ошибку в формулировке платежного поручения. В результате сто шестьдесят восемь тысяч долларов ушли не под «обнал», а прямиком на закупку партии широкоформатных телевизоров и прочей техники.
Норов был в ярости от такой глупости. Он крыл Дорошенко последними словами, обещал засунуть ему в зад его облезлую ондатровую ушанку, а его самого отправить назад по почте на Украину в том самом обшарпанном чемодане, с которым Дорошенко сюда притащился. Перепуганный Дорошенко хлопал длинными ресницами, моргал голубыми глазами и умоляюще лепетал:
– Пал Саныч, ну что вы сердитесь, мы эти телики, в крайнем случае, реализуем… Я лично на себя это возьму… Вещь-то нужная…
Сотрудники, набившиеся в приемную, чтобы насладиться разносом Пыжика, прислушиваясь к долетавшим из кабинета угрозам Норова и оправданиям Дорошенко, покатывались со смеху.
Деньги Норову, в конце концов, удалось спасти. Правда, владелец магазинов как истинный торгаш, потребовал за это семь процентов, но все же так было гораздо лучше, чем потерять все. Половину этой суммы Норов вычел из зарплаты Дорошенко. Он считал, что в случившемся виноваты в равной степени они оба: напортачивший Дорошенко и сам Норов, поставивший такого идиота руководить своей фирмой.
Норов уже понял, что, пригласив Дорошенко, совершил большую ошибку, как говорят в бизнесе, «сработал в минус». Однако выгонять его Норову было жалко. Все-таки это был Сережа, старый друг, сочувствовавший ему и во время драмы с Лизой, и когда он расходился с Ланой. С кем еще во всем Саратове Норов мог поговорить о Платоне и Аквинате, Гомере, Лейбнице, Бахе, Дюрере? Да что там в Саратове, кого они теперь интересовали во всей России? Сережа был интеллигентом, как и сам Норов; сколько их еще оставалось?
Но на самом деле разгадка его привязанности к Дорошенко крылась не в Сережиной интеллигентности, а в том, что у сильных людей есть инстинктивная потребность заботиться о слабых, – в этом заключается их собственная слабость.
***– Неужели ты готова разрушить семью из-за этого старого козла? – предпринял еще один заход Гаврюшкин.
– Нюша, можно я стукну чем-нибудь по этому громкоговорителю? – спросил Норов. – Мне кажется, там что-то заело.
– Я те стукну! – тут же вскинулся Гаврюшкин. – Мало я тебе вломил? Еще захотел? Я тебя, хорька, в унитаз засуну и смою!
Норов выдвинул ящик стола и, порывшись, достал тяжелый металлический молоток с рифленой поверхностью для отбивки мяса.
– Я все-таки попробую, – решил он. – Хуже не будет.
– Да перестаньте же! – воскликнула Анна.
На кухню осторожно заглянула Ляля.
– Я кушать хочу! – проговорила она жалобно. – Я, конечно, извиняюсь, что прерываю, но вы ж мне утром так и не дали покушать! Можно я из холодильника че-нибудь возьму и исчезну? А вы тут дальше ссорьтесь…
– Ладно, – сказал Норов. – Пойду-ка я душ приму. Тоже полезно. Заодно той дрянью от синяков намажусь, которую ты вчера купила.
Он взял пистолет со стола, посмотрел в ненавидящие черные глаза Гаврюшкина, сделал над собой усилие и произнес:
– Еще раз прости. Я виноват перед тобой. Ты честный, хороший парень.
Гаврюшкин молчал, ничуть не смягченный.
– Большой, – не удержавшись, прибавил Норов. – Только без гармошки.
Про гармошку, конечно, можно было и не говорить. Ребячество, Кит. Ребячество и ревность.
***Дорошенко все-таки нашел свою нишу, к большому облегчению Норова, иначе пришлось бы все-таки отправлять его назад, пусть и не в чемодане и без шапки в заду. Он сумел оказаться полезным в избирательных компаниях, правда, в специфической роли. Норов не умел торговаться и не любил это делать, а вот у Дорошенко к этому были и вкус, и способности. Кандидатов он ошкуривал с безукоризненной вежливостью, уважительно, внешне дружелюбно, но без всякого милосердия. Апеллируя к славе Норова, не знавшего поражений, Дорошенко навязывал им московские цены, и те в конце концов соглашались.
Впрочем, тут была палка о двух концах: за победу предстояло бороться, а некоторые кандидаты считали, что после подписания договора и внесения значительного аванса она им уже обеспечена. Дорошенко было безразлично: победят они или проиграют, в выборах его интересовали только деньги, но Норов ощущал ответственность за результат. К тому же принципы не позволяли ему работать с теми, кого он считал идейными противниками. Дорошенко не понимал подобных ограничений, но, не смея возражать, лишь неодобрительно молчал.
Осенью, во время кампании, объединявшей депутатские выборы нескольких уровней, Дорошенко набрал группу аж из двенадцати кандидатов и уговорил Норова за нее взяться.
Для каждого из претендентов был создан отдельный штаб, который возглавил либо друг кандидата, либо его соратник. Вообще-то, ставленники кандидатов, как правило, мало подходили для такой должности, Норов предпочел бы заменить их другими руководителями, более дельными, но кандидаты больше доверяли своим. Штабы располагались в разных комнатах двухэтажного здания, снятого специально под выборы. Технические сотрудники сидели все вместе в большом зале, заставленном компьютерами, принтерами и ксероксами. К залу примыкала просторная комната, где хранили печатную продукцию, она была завалена плакатами, листовками и пачками газет.
В здание непрерывным потоком шли активисты, агитаторы, расклейщики листовок и ответственные за различные акции, в том числе и не вполне законные, хулиганские, – последних Норов называл «безобразниками». Работа шла круглосуточно, Норов спал по три-четыре часа в сутки, иногда уходил с работы далеко за полночь, лишь для того, чтобы переодеться, принять душ, побриться и вернуться. Он литрами пил кофе, стараясь не терять концентрации на совещаниях, но, едва сев в машину, сразу выключался.
И все же двенадцать кандидатов одновременно было слишком много даже для него. В кутерьме и суматохе он не успевал контролировать работу всех штабов, убежденный, что его страхует Дорошенко. Его уверенность подкреплялась тем, что он по щедрости пообещал Дорошенко тридцать пять процентов с прибыли. Однако, несмотря на всю свою любовь к деньгам и страх перед Норовым, Дорошенко тайком от него то и дело сбегал домой, – у него, как назло, в очередной раз болел ребенок.
В итоге оба забыли про неуклюжего толстого фермера из Обшаровки, выращивавшего подсолнухи, который мечтал протиснуться в районный совет. Тот, конечно, с треском проиграл.
Собственно, больше всех в поражении был виноват начальник штаба, племянник фермера, который посреди избирательной кампании вдруг запил и перестал появляться на работе. Но обиделся фермер на Норова. Он подал на Норова в суд за невыполнение обязательств и проиграл, но не успокоился и разослал всем саратовским изданиям полуграмотную жалобу, в которой ругал Норова мошенником и обманщиком.
Это было первым поражением Норова, он сильно его переживал, хотя и пытался отшучиваться.
***Ванная комната с туалетом примыкала к спальне Норова, но двери между ними не было, широкий проход оставался открытым, и малейший шум оттуда, включая звук смываемой в унитазе воды, был слышен в спальне. Дом строил отец Лиз, и трудно сказать, чем объяснялась такая особенность: его просчетом или какой-то новой архитектурной модой. Так или иначе, но подобное решение Норов не считал удачным, и если бы в спальне ночевал не один человек, а двое, оно создавало бы кучу неудобств.
Норов стоял перед зеркалом, замотанный полотенцем, рассматривая свой покрытый кровоподтеками и ссадинами торс, когда в спальню постучала Анна.
– Я принесла тебе мазь, – сообщила она через дверь. – Можно войти?
– Конечно, только не пугайся, я без галстука.
Анна вошла, держа тюбик в руке. За ее спиной неотступно маячил Гаврюшкин.
– Господи, ты весь в ранах! – воскликнула она.
– Херня! – тут же ревниво заспорил Гаврюшкин. – Подумаешь, пара синяков и рожа распухла! Когда мы в Чечне воевали…
– Тебе обе ноги оторвало, – перебил Норов. – Но ты все равно пошел в атаку и подбил семнадцать танков. Знаю. Я тебя, кстати, не звал.
– Меня не зовут, я сам прихожу! – парировал Гаврюшкин.
– Я уже заметил. А когда тебя посылают, ты сам уходишь?
– Тебе срочно нужен врач! – взволнованно перебила Анна. – Дай я тебя натру.
Не обращая на мужа внимания, она принялась бережно натирать Норова мазью. Гаврюшкин засопел. Не в силах перенести это зрелище, он повернулся, чтобы уйти, но передумал и остался.
– Ты слышишь меня? – спросила Анна Норова. – Я позвоню врачу!
Он поморщился.
– Что, больно?
– Да нет, терпимо. Вот тут – полегче, не жми, ладно?
– Все-таки больно?
– Похоже, ребро сломано.
– Сломано ребро?!
– Не слушай его, он спецом! – тут же встрял Гаврюшкин из–за ее спины. – Дай-ка я сам пощупаю!
– Себя щупай, – посоветовал Норов. – Гляди, как возбудился!
– Нор, я тебя…
– Не надо! – перебил Норов. – Только не это! Что за разнузданные сексуальные фантазии: насиловать другого мужчину в присутствии собственной жены!
– Я тебя кончу!
– А это я уже слышал. Нют, как ты живешь с таким занудой? Даже наш бессменный вождь хоть изредка да меняет набор своих обещаний.
– Аня, не верь ему насчет ребра, он все врет! – не унимался Гаврюшкин.
– По-твоему, он сам сломал себе ребро?! – гневно обернулась к мужу Анна.
– Он спецом на жалость бьет.
– Говори лучше «сознательно», – посоветовал Норов. – Звучит не так глупо.
– Не умничай!
– Не буду. Нютка, попроси его, пожалуйста, выйти, мне нужно одеться.
– А чем я тебе мешаю? – с вызовом осведомился Гаврюшкин.
– Слишком страстно смотришь, я смущаюсь.
– Бл.ь, Нор!
– Не распаляйся! Сходи на кухню, попей холодной водички и потом попробуй еще раз выразить свои чувства без «бл.дей» и «Нора».
– Сука!
– Месье Поль! – раздался снизу голос Лиз. – Бонжур! Вы меня слышите? Как ваши дела? Я пришла убираться. Ой! У вас тут что-то случилось! Стекло разбито… вы видели?
– Привет, Лиз! – крикнул Норов. – Минуточку! Я сейчас спущусь.
– Пойду тоже переоденусь, – сказала Анна.
– Да и тебе неплохо бы сменить наряд, – заметил Норов Гаврюшкину. – А то в этом джемпере у тебя брюхо выпирает, могут подумать, что ты – беременный. Дать тебе мой халат?
– Пошел на х..! – ответил Гаврюшкин, машинально втягивая живот.
***Кампания с двенадцатью кандидатами была трудной и нервной, но ее финансовые итоги превзошли ожидания. На двоих Норов и Дорошенко заработали чистыми больше миллиона долларов, и Дорошенко смог осуществить свою заветную мечту – купить загородный дом. Он приобрел небольшой, но ухоженный коттедж с участком в восемь соток, расположенный поблизости от тихого ведомственного санатория, в полукилометре от Волги. Его жена тут же взялась обставлять и благоустраивать новое жилище, и Дорошенко в очередной раз занял у Норова денег.
Сам Норов по-прежнему жил один, в большом красивом доме, куда приезжал лишь ночевать. Дом находился под круглосуточной охраной, туда ежедневно приходила домработница. Необходимость ее присутствия диктовалась тем, что Норов редко возвращался один, обычно его сопровождали две-три девушки, которые, в отличие от него, аккуратностью не отличались.
Им непременно хотелось перепробовать все деликатесы из Норовского холодильника, даже после долгого вечера в ресторане; сладкое шампанское они готовы были пить бутылками, и лучше – в джакузи, куда они обязательно залезали все вместе. Они не укладывались, не исследовав все помещения в доме, не нажав все выключатели и что-нибудь не сломав. Словом, следы своего пребывания они оставляли повсюду и нередко разрушительные.
Если Норов задерживался на деловых встречах, то девушек привозила к нему охрана, и они, дожидаясь его, развлекали себя выпивкой и игрой на бильярде, бывшем тогда в моде. Большой бильярдный стол располагался в цокольном этаже; Норов в одиночестве порой гонял шары. С девушками он играл на раздевание, – это облегчало переход от одной фазы к другой.
Счет девушкам Норов не вел, их было много, контингент постоянно менялся, он не запоминал ни лиц, ни имен, и порой заново знакомился с теми, с кем уже спал. Подобная забывчивость их, конечно, обижала, но они терпели, – он много платил и делал дорогие подарки.
Иногда из дома что-нибудь исчезало: безделушки, аксессуары, дорогие ручки, парфюмерия, мелочи одежды; однажды даже пропал высокий итальянский торшер, – черт знает, как девицы ухитрились его спереть незаметно для охраны. Домработница, обнаружив пропажу, с негодованием докладывала Норову, но он только отмахивался.
Денег на женщин он никогда не жалел. Сережа Дорошенко, ведавший финансами фирмы, был в курсе его трат и сильно сокрушался по этому поводу. Он частенько приговаривал со вздохом:
– Эх, Пал Саныч, вот бы и мне стать вашей женщиной!
Эта шутка, которую Сережа повторял и в присутствии своей жены, заставляла Норова испытывать неловкость.
***Когда Норов появился на лестнице, Лиз возилась у разбитого окна, заметая осколки стекла в пластиковый совок.
– Бонжур, Лиз, – сказал Норов.
– Бонжур, месье Поль, – отозвалась она, аккуратно орудуя веником. – Я сейчас тут все уберу, вы не волнуйтесь. Интересно, как же такое могло получиться?
Увлеченная своим занятием, она рассуждала, не поднимая головы, стараясь не пропустить ни одного осколка.
– Случается, что птицы ненароком ударяются, но чтобы стекло разбилось, такого еще не было!
Она выпрямилась с совком в руке, только тогда увидела заплывшее лицо Норова и замерла.
– Тут двойные рамы и очень прочные стекла,.. – по инерции еще произнесла она, и, прервавшись на полуслове, замолчала. Совок наклонился, и осколки из него вновь посыпались на пол.
– Я тоже рад вас видеть, – сказал Норов.
– Ой! – опомнившись, воскликнула Лиз. – Простите!
– Надеюсь, у вас все в порядке?
– Э-э… да… спасибо. А у вас?
– Все отлично. Не считая того, что подмигивать теперь могу только одним глазом.
Он показал, как может теперь подмигивать, но Лиз это не позабавило. Она смотрела на него с изумлением и страхом.
– Я тут немного поспарринговал, – пояснил Норов и сделал несколько боксерских движений. – Пропустил пару раз. Отвык уже, годы…
– Разве тут кто-то еще, кроме вас, занимается боксом? – удивилась Лиз.
– Я нашел одного парня, – туманно ответил Норов.
– Здесь? У нас?
– Да нет… он живет в другом месте, неподалеку. Можно сказать, мне повезло.
– Вы считаете, вам повезло? – с сомнением отозвалась Лиз.
***К середине девяностых годов русские уже прочно освоили все заграничные морские побережья. Большинству полюбились недорогие Египет и Турция, те, кто побогаче, предпочитали Лазурный берег, Испанию и Италию.