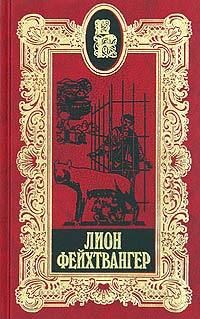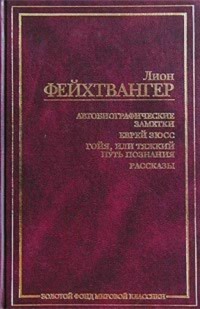Полная версия
Трилогия об Иосифе Флавии: Иудейская война. Сыновья. Настанет день
Египетская зима миновала, разлив Нила кончился. Ливни, делавшие болотистую местность на пути к Пелузию труднопроходимой, прекратились; войско можно было отправить из Никополя вверх по Нилу и затем повести старой дорогой через пустыню в Иудею.
Гордо расхаживали вожди александрийских евреев, как всегда сдержанные, со спокойными лицами; но в душе они были полны тревоги. Они сами приняли участие в мобилизации, они хорошо подрабатывали на обмундировании и снабжении армии продовольствием. Они были также полны мрачной злобы на иудейских мятежников и от души сочувствовали тому, что Рим наконец занес ногу, чтобы окончательно растоптать восстание. Но как легко могла эта нога опуститься не только на восставших, но и на город и даже на храм! Иерусалим был самой твердой твердыней мира, повстанцы в своем ослеплении готовы на безрассудную смерть, и если город приходится брать силой, то где кончается эта сила и кто прикажет ей остановиться?
По отношению к александрийским евреям Рим держался корректно и доброжелательно. Война ведется против бунтовщиков в провинции Иудее, не против евреев империи. Но если правительство делало это различие, то массы его не делали. Город Александрия был вынужден выделить для похода большую часть своего гарнизона. Евреи не подавали и вида, но они весьма опасались такого же погрома, как четыре года назад.
Тем усерднее старались они показать императору и его сыну свою лояльность. Хотя многие члены общины этого не одобряли, все же великий наставник Феодор бар Даниил на прощание устроил принцу Титу банкет. Присутствовали император, Агриппа, Береника, начальник Титова штаба Тиберий Александр. Были приглашены также Иосиф и Дорион. Они были серьезны, бледны какой-то светящейся бледностью, очень сдержанны, и все смотрели на них.
И вот эти сто человек возлежали за трапезой, иудеи и римляне, в честь того, что завтра армия, состоящая теперь из четырех легионов, Пятого, Десятого, Двенадцатого и Пятнадцатого, выступит из Сирии и из Египта, чтобы окружить дерзкую столицу Иудеи и навсегда ее смирить. «Твое назначение, римлянин, править миром, щадить покоренных, смирять бунтовщиков» – так пел поэт, когда основатель монархии покорил державу, и вот они решили осуществить его слово, римляне и иудеи, осуществить его с помощью меча и Писания.
Празднество продолжалось недолго. На короткую речь великого наставника отвечал Тит. Он был в парадной форме полководца, он уже не казался юношей, глаза были жестки, холодны и ясны, и все увидели, до чего он похож на отца. Он говорил о римском солдате, о его дисциплинированности, его мягкости, его суровости, его традициях.
– Другие мыслили глубже, – сказал он, – другие чувствовали красивее: нам боги дали в дар способность делать нужное в нужную минуту. У грека есть его статуи, у иудея – его книги, у нас есть наш лагерь. Он крепок и подвижен, он создается каждый день заново, это маленький город. Он – защита покорного, подчиняющегося закону, и угроза бунтовщику, закона не признающему. Я обещаю вам, отец, я обещаю Риму и всему миру, что в моем лагере будет присутствовать Рим, старый Рим, суровый – там, где это нужно, милостивый – где это можно. Предстоящая война будет нелегкой, но это будет хорошая война, по римскому способу.
Молодой генерал говорил не пустые слова, в них был смысл и сущность его пола, это говорила сама мужественность, добродетель мужа, сделавшая обитателей маленького поселка на тибрских высотах властителями Лациума, Италии, всего мира.
Император слушал, довольный, поддакивал сыну; медленно, машинально поглаживал он подагрическую ногу. Нет, еврейка не получит его мальчика. И он взглянул с тайной довольной усмешкой на Беренику. Она слушала, подперев рукой смуглое смелое лицо, неподвижная. Она была полна печали. Этот человек о ней совершенно забыл, вытравил из последнего тайника своего сердца. Он теперь солдат, и только; он научился колоть, стрелять, убивать, растаптывать. Трудно будет удержать его руку, если уж он занесет ее.
Пока принц говорил, в сияющем огнями зале было очень тихо. Здесь присутствовал и художник Фабулл. Портрет принцессы Береники был закончен. Но принц не хотел его брать с собой, и это говорило о высоком мастерстве художника; ибо портрет, по словам принца, до того живой, что, находясь у него, он будет все время его волновать, а ему нужно вести армию в поход, и такое волнение ни к чему. Художник Фабулл постарел, его профиль стал еще строже, тело потеряло свою массивность. Как обычно, смотрел он перед собой отсутствующим взглядом, но этот отсутствующий взгляд был обманчив. Человек, ставший за несколько недель стариком, видел прекрасно. Он видел сотни римлян, уходивших, чтобы покарать прокаженных рабов, и видел иудеев, караемых, лизавших руку своим хозяевам. Живописец Фабулл был скуп на слова, слово являлось чуждой для него областью, но он был подлинным художником, он понимал без слов то, что таится за этими лицами, как бы они ни замыкались. Он видел маршала Тиберия Александра, холодного и элегантного, достигшего в полной мере того, ради чего он, Фабулл, всю жизнь напрасно бился, и он видел, что этот жестокий, умный и могущественный человек несчастлив. Нет, счастливым не мог себя назвать ни один из этих евреев – ни царь Агриппа, ни Клавдий Регин, ни великий наставник. Только римляне были счастливы и в согласии с самими собой и своими судьбами. В них не было глубины, мудрость и красота не их проблемы. Их путь прям и прост. Он очень суров, этот путь, и очень долог, но у них крепкие ноги и смелые сердца: они пройдут до конца свой путь. И находящиеся в этой зале евреи, египтяне и греки правы, чествуя их как хозяев.
Он видел также лицо человека, к которому сбежала его дочь, лицо этого нищего, этого пса, этого отброса, которому она себя выбросила. Но как ни странно – у него не лицо нищего; это лицо мужчины, долго боровшегося против власти, лицо человека, много изведавшего, подчинившегося и наконец эту власть признавшего, но с тысячью хитрых недомолвок, лицо воина, который понял, но не сдался. Художник Фабулл ничего не смыслит в литературе, ничего не хочет знать о ней, ненавидит ее, озлоблен на то, что Рим признает литераторов, но не художников. И все же художник Фабулл кое-что смыслит в человеческих лицах. Он видит, как Иосиф слушает речь Тита, и знает, что вот этот человек, любовник его дочери, этот нищий, этот пес отправится с Титом и будет смотреть, как гибнет его город, и опишет его гибель. Все это он видит в лице Иосифа. И вскоре после окончания речи Тита он подходит к Иосифу – довольно нерешительно, не так уверенно и важно, как обычно. Дорион смотрит на него испуганно, ожидая, что сейчас произойдет. Но ничего не происходит. Художник Фабулл говорит Иосифу, и его голос звучит не так уверенно, как всегда:
– Желаю вам, Иосиф Флавий, успешно написать вашу книгу о войне.
На другой день Иосиф садится в Никополе на большой корабль, который повезет его вверх по Нилу. Гавань полна солдат, ящиков, сундуков, багажа. Допущены только немногие штатские, так как прощание по приказу верховного командования должно было состояться в Александрии. Только один человек настоял на том, чтобы проводить Иосифа до Никополя. Клавдий Регин.
– Раскройте глаза и сердце как можно шире, молодой человек, – говорит он, когда Иосиф поднимается на корабль, – чтобы ваша книга удалась. Сто пятьдесят тысяч сестерциев – это неслыханный аванс.
Перед самой посадкой на корабль Тит отдал приказ восстановить снятые Веспасианом посты огневой сигнализации, которая должна была возвестить Риму падение Иерусалима.
Книга пятая
Иерусалим
Начиная с 1 нисана на дорогах Иудеи появились паломники, которые направлялись в Иерусалим, чтобы заколоть пасхального агнца на алтаре Ягве и есть пасху в святом городе. Шла гражданская война, на дорогах было полно разбойников и солдат, но эти непостижимые люди не хотели отказаться от своего паломничества. Они прибывали – мужчины старше тринадцати лет – то поодиночке, то длинными вереницами. Большинство пришло пешком, в обуви, с дорожным посохом, с перекинутыми через плечо мехами для воды и роговым футляром для дорожных припасов. Многие ехали на ослах, на лошадях, на верблюдах, богатые – в повозках или в носилках. Очень богатые привезли с собой жен и детей.
Они двигались со стороны Вавилона, по большой, широкой царской дороге. Они двигались по многочисленным ухабистым проселкам с юга. По трем большим благоустроенным дорогам для войск, проложенным римлянами. Ворча, проходили они мимо колонн бога Меркурия, воздвигнутых вдоль этих дорог, ворча, уплачивали высокие дорожные и мостовые пошлины. Но их лица тут же прояснялись, и они весело следовали дальше, как того требовал закон. Вечером они мыли ноги, умащали свои тела, произносили благословение, радовались, что увидят храм и святой город, и предвкушали пасхального агнца, мужского пола, годовалого, беспорочного.
Но за паломниками следовали римляне. Целых четыре легиона в полной боевой готовности, затем отряды союзников, всего около ста тысяч человек. 23 апреля, то есть 10 нисана по еврейскому счислению, выступили они из Кесарии, 25-го стали лагерем в Габатсауле, ближайшем большом селении перед Иерусалимом.
Солдаты, маршировавшие рядами по шесть человек, заняли дорогу во всю ширину и оттеснили паломников на проселки. Вообще же они паломников не трогали. Хватали только того, на ком была крамольная повязка со словом «Маккавей». Паломников бросало в дрожь, когда они видели, как легионы гигантским червем подползают к городу. Может быть, того или другого на миг охватывала нерешительность, но никто не повернул обратно, – наоборот, они, эти непостижимые люди, ускоряли шаг. Отвратив взоры, пугливо стремились они вперед; под конец это стало похоже на бегство. И когда 14 нисана, в канун праздника, в день пасхальной вечери, последние паломники достигли города, ворота закрылись, ибо за ними, на высотах, уже показался римский передовой отряд.
То, что в Иерусалиме не стало тогда слишком тесно от паломников, считается одним из десяти чудес, которыми Ягве отметил свой народ Израиль. Ибо в тот год, зажатый своими стенами, отрезанный от окрестных деревень, обычно дававших паломникам приют, город был набит людьми до отказа. Но теснота не смущала вновь прибывших. Они наводняли гигантские залы и дворы храма, восхищались достопримечательностями Иерусалима. Они были при деньгах, они толкались на базарах. Дружелюбно задевали друг друга, предупредительно уступали друг другу место, добродушно торговались с продавцами, передавали подарки знакомым. В месяце нисане Ягве спас евреев от руки египтян. Они смотрели на приближавшихся римлян с удивлением и любопытством, но без страха. Они чувствовали под ногами священную почву. Они были в безопасности, они были счастливы.
Принц и его свита смотрели с вершины холма. У их ног, налитый солнцем, иссеченный глубокими ущельями улиц, лежал город.
Тит, увидев наконец впервые этот знаменитый строптивый Иерусалим, вполне оценил его красоту. Город смотрел на него снизу вверх со всех своих крутых холмов, белый, дерзкий. За ним развертывался ландшафт, широкий, пустынный, множество голых вершин, рощи кедров и пиний, долины с пашнями, террасы с оливковыми деревьями, виноградники, поблескивающее вдали Мертвое море. А лежащий на переднем плане город кишит людьми, едва оставляя место для глубоких ущелий улиц, заполняет каждую пядь земли жилищами. И подобно тому как тихий ландшафт вливается в кишащий людьми город, так кишащий людьми город в свою очередь вливается там, напротив, в серебро и золото – в прямоугольник храма, бесконечно хрупкие контуры которого, несмотря на всю его огромность, словно парят в воздухе. Даже высочайшие точки Иерусалима – форт Антония и кровля храма – лежат гораздо ниже того места, на котором сейчас находится Тит, и все же ему чудится, что и он, и его конь словно приросли к земле, тогда как город и храм, легкие и недосягаемые, плывут в воздухе. Принц видит красоту Иерусалима. Но одновременно, с зоркостью солдата, он видит и его неприступность. С трех сторон – ущелья. Вокруг всего города – гигантская стена. И если взять ее, то у пригорода есть еще вторая стена, и своя стена есть у Верхнего города; храм – на высоком крутом холме, Верхний город – на своем, и это опять-таки две самостоятельные крепости. Только с севера, там, где сейчас находится Тит, волнистая мягкая линия холмов подступает к самому городу и храму. Но там стены и форты наиболее укреплены. Неодолимые, дерзко смотрят они на него снизу вверх. Его охватывает все более бурное желание сокрушить эти просторные упрямые дворцы, огнем и железом проложить себе дорогу через толстые стены и проникнуть в тело надменного города.
Принц делает легкое беспокойное движение головой. Он чувствует на себе взгляд Тиберия Александра. Тит знает, что маршал – первый солдат эпохи, вернейшая опора дома Флавиев. Он восхищается этим человеком; его смелое лицо, его пружинящая плавная походка напоминают ему Беренику. Но в его присутствии он чувствует себя мальчишкой, вежливое превосходство маршала угнетает его.
Несмотря на возраст, Тиберий Александр молодцевато сидит на своем арабском вороном коне. Его удлиненное лицо с острым носом неподвижно, оно обращено к городу. Какие там закоулки! Просто непостижимо, как эти люди во время праздничных паломничеств теснятся вплотную друг к другу, словно соленая рыба. Он был много лет губернатором в Иерусалиме и знает, насколько трудно будет прокормить продолжительное время эти сотни тысяч. Неужели вожди – господа Симон бар Гиора и Иоанн Гисхальский – намерены быстро от него отделаться? Уж не надеются ли они прогнать его сто тысяч человек с помощью своих двадцати четырех тысяч? Он представляет себе свою артиллерию, стенобитные машины Десятого легиона, прежде всего «Свирепого Юлия», этот замечательный новейший таран. Старый, многоопытный солдат смотрит на город почти с состраданием.
А там, в стенах города, эти безумцы все еще воюют друг с другом. Они ненавидят друг друга больше, чем римлян. Во время своей нелепой гражданской войны они сожгли гигантские запасы хлеба; Иоанн, борясь против Симона, ввел свою артиллерию даже во внутренние залы храма. Словно приветствуя знакомца, скользит тихий, слегка усталый взгляд маршала по четырехугольному контуру храма. Его собственный отец заказал в дар храму металлическую обшивку новых внутренних дверей: золото, серебро, коринфская бронза, превышающие стоимостью налоги с целой провинции. И все-таки этот же отец его, верховный наставник александрийских евреев, допустил, чтобы он, Тиберий Александр, будучи еще мальчиком, порвал с иудейством. И теперь он благодарен за это своему мудрому отцу. Выключать себя из уравновешенной, глубоко содержательной греческой культуры – преступная глупость.
С едва заметной насмешливой улыбкой устремляет он взгляд на секретаря и переводчика принца; Иосиф взволнованно смотрит вниз, на город. Этот Иосиф хочет, чтобы уцелело и то и другое – иудаизм и эллинизм. «Но так не бывает, милый мой. Иерусалим и Рим, Исайя и Эпикур – этого вы не получите. Будьте добры выбрать то или другое».
Рядом с ним – царь Агриппа; на красивом, чуть жирном лице застыла всегдашняя вежливая улыбка. Он охотнее прибыл бы сюда как паломник, чем во главе пяти тысяч всадников. Он не видел Иерусалима четыре года, с тех пор как этот нелепый народ выгнал царя после его знаменитой речи, призывавшей к миру. И теперь этот страстный строитель с огромной любовью и глубоким сожалением смотрит на Иерусалим, белый, деловито вползающий на свои холмы. Он сам здесь много строил. Когда после завершения храма восемнадцать тысяч рабочих остались без хлеба, он заставил их вымостить заново весь город. Теперь маккавеи принудили часть этих рабочих стать солдатами. Одного из них, некоего Фанния, они, в насмешку над аристократами, даже сделали первосвященником. А как они расправились с его домами, с дворцом Ирода, со старым дворцом Маккавеев? При таком зрелище тяжело сохранять спокойствие лица и духа.
Вокруг них работали солдаты. В молчание этих господ, неподвижно стоящих в легком ветерке на вершине холма, врывается звяканье лопат и топоров. Солдаты устраивают лагерь, выравнивают почву для осады, копают землю, относят ее вниз. Окрестности Иерусалима – сплошной сад. Они срубают оливковые и фруктовые деревья, виноградные лозы. Они сносят виллы на Масличной горе, склады братьев Ханан. Они все тут сровняли с землей. «Solo adaequare» – значит «сровнять с землей», таков технический термин. Это первое, что необходимо для начала осады, это элементарное правило, его прежде всего внушают каждому, изучающему военное искусство. Иудейский царь сидит на своей лошади в красивой небрежной позе, лицо у него немного утомленное, как всегда – спокойное. Сейчас ему сорок два года. Он спокойно принимал жизнь, хотя мир полон глупости и варварства. Сегодня ему это трудно.
Иосиф – единственный, кто не в силах владеть собой. Так смотрел он некогда из Иотапаты на сжимавшие свое роковое кольцо легионы. Он знает: сопротивляться безнадежно. Умом – он на стороне тех, в среде которых теперь находится. Но сердцем – он с иудеями; ему тяжело слышать стук лопат, топоров, молотков, с помощью которых солдаты опустошают лучезарные окрестности города.
Из района храма доносится чудовищное гуденье. Лошади начинают беспокоиться.
– Что это? – спрашивает принц.
– Это Магрефа, стозвучный гидравлический гудок, – поясняет Иосиф. – Его слышно до самого Иерихона.
– У вашего бога Ягве очень громкий голос, – констатирует Тит.
Затем он наконец прерывает долгое, тягостное молчание.
– Как вы думаете, господа, – спрашивает он резким, почти лязгающим голосом, это скорее приказание, чем вопрос, – сколько нам понадобится времени? Я считаю, если дело пойдет успешно, то три недели, если нет – два месяца. Во всяком случае, я хотел бы к празднику «октябрьского коня» быть уже в Риме.
До сих пор три полководца-диктатора вели между собой борьбу из-за Иерусалима. Симон бар Гиора главенствовал над Верхним городом, Иоанн Гисхальский – над Нижним городом и Южным храмовым районом, доктор Элеазар бен Симон – над внутренней частью этого района, над самим храмом и фортом Антония. Когда в этом году, в канун пасхи, паломники устремились толпами вверх, к храму, чтобы заколоть для Ягве своего агнца, Элеазар не осмелился запретить им доступ во внутренние дворы. Однако к толпе паломников незаметно пристало множество солдат Иоанна Гисхальского, и они, достигнув внутренних залов храма, перед гигантским жертвенным алтарем сбросили с себя одежду паломников, оказались в полном вооружении, перебили Элеазаровых офицеров, а самого взяли в плен. Иоанн Гисхальский, овладев таким способом всей территорией храма, предложил Симону бар Гиоре отныне биться совместно против врага, стоящего под стенами города, и пригласил его съесть с ним пасхального агнца в его штабе, находившемся во дворце княгини Граптэ. Симон согласился.
И вот под вечер Иоанн, хитрый и довольный, стоял перед распахнутыми воротами во дворе дома княгини, поджидая своего прежнего врага и теперешнего союзника. Симон, миновав Иоаннов караул, воздавший ему почести, поднялся по ступенькам крыльца. Он и его свита были вооружены. Это на миг раздосадовало Иоанна, который был без оружия, но он тотчас же овладел собой. Почтительно, как того требовал обычай, отступил он на три шага, низко склонился и сказал:
– Сердечно благодарю вас, Симон, за то, что вы пришли.
Они вошли в дом. Дворец княгини Граптэ, заиорданской принцессы, некогда роскошно обставленный, имел теперь заброшенный вид, превратился в казарму. Бряцая оружием, шел Симон бар Гиора рядом с Иоанном через пустые комнаты, изучал своего спутника узкими темными глазами. Этот человек причинил ему столько зла – он захватил в плен его жену, чтобы выжать из него уступки, они грызлись друг с другом, как дикие звери, он ненавидит его, и все-таки он чувствует почтение перед хитростью другого. Может быть, Ягве и не простит этому Иоанну, что перед его алтарем из неотесанных камней, которых железо не должно касаться, Иоанн приказал из-под паломнической одежды извлечь мечи; однако это было дерзко, хитро, смело. Хмурый, но исполненный уважения, шагал он рядом с Иоанном.
Агнца жарили прямо на огне, как предписывал закон, целиком, голени и внутренности положили снаружи. Они прочитали предписанные молитвы, рассказы об исходе из Египта, они с аппетитом ели агнца, они ели его, как предписывал закон, с пресным хлебом и горькими травами, в память о горькой участи евреев в Египте. Говоря по правде, все эти казни, которые Ягве наслал на Египет, немножко смешны, если сравнить их с казнями, постигшими их самих, а римское войско, конечно, страшнее египетского. Но это не имело значения. Они сидели теперь вместе, в одной комнате, кое-как примирившиеся. И вино было хорошее, эшкольское вино, оно согрело их озлобленные сердца. Правда, лицо Симона бар Гиоры оставалось серьезным, но остальные развеселились.
После трапезы они подвинулись друг к другу, выпили вместе последний из предписанных четырех кубков вина. Затем оба вождя отослали женщин и приближенных и остались одни.
– Не отдадите ли вы мне и моим людям часть вашего оружия? – начал через некоторое время Симон бар Гиора серьезный разговор, недоверчиво, скорее требуя, чем прося. Иоанн посмотрел на него. Оба были измучены, истрепаны, озлоблены бесконечными усилиями, страданиями и огорчениями. «Как можно быть таким молодым и таким сердитым? – думал Иоанн. – Ведь нет и трех лет, как от этого человека исходило сияние, словно от самого храма».
– Вы можете получить все мое оружие, – сказал он искренне, почти с нежностью. – Я хочу бороться не с Симоном бар Гиорой, я хочу бороться с римлянами.
– Спасибо, – отозвался Симон, и в его узких карих глазах появился отблеск былой неистовой надежды. – Мы провели хороший пасхальный вечер, во время которого Ягве обратил ко мне вашу душу. Мы будем отстаивать Иерусалим, римляне будут разбиты. – Стройный и прямой, сидел он перед коренастым Иоанном, и теперь было видно, что он еще очень молод.
Узловатая крестьянская рука Иоанна Гисхальского играла большим кубком для вина. Он был пуст, а выпивать больше четырех кубков не разрешалось.
– Мы не отстоим Иерусалим, Симон, брат мой, – сказал Иоанн. – Не римляне будут разбиты, а мы. Но хорошо, что есть люди с такой верой, как ваша. – И он взглянул на него дружелюбно, сердечно.
– А я знаю, – страстно заявил Симон, – что Ягве дарует нам победу. И вы тоже в это верите, Иоанн. Для чего же иначе затеяли бы вы войну?
Иоанн задумчиво посмотрел на боевую повязку с начальными буквами девиза маккавеев.
– Не хочу спорить с вами, брат мой Симон, – сказал он мягко, – и говорить о том, почему моя вера в Иерусалиме не так крепка, как была в Галилее.
Симон сделал над собой усилие.
– Не вспоминайте о крови и пламени, разделивших нас, – ответил он. – Виноваты были не вы и не я. Виноваты ученые и аристократы.
– Ну, – фамильярно подтолкнул его Иоанн, – им-то вы задали перцу. Как сирийские канатные плясуны, прыгали они, эти господа ученые в длинной одежде. А старик-первосвященник Анан, державшийся в Великом совете с таким видом, словно он – сам разгневанный Ягве, лежал потом мертвый, голый и грязный и не был уже усладой для глаз. Вторично он из Зала совета вас уже не выбросит.
– Ну, – сказал Симон, и даже по его измученному лицу промелькнула улыбка, – вы, Иоанн, тоже были не из кротких. Вспомните, как вы ликвидировали последних отпрысков первосвященников – аристократов, а затем объявили первосвященником строительного рабочего Фанния и заставили глупого неуклюжего парня проделать всю церемонию облачения и прочее, – этого ведь тоже не приведешь как пример благочестивой жизни.
Иоанн ухмылялся.
– Не говорите ничего дурного про моего первосвященника Фанния, брат мой Симон, – сказал он. – Соображает он туговато, допускаю, но он хороший человек, и он – рабочий, а не аристократ. Он – наш. В конце концов, так уж решила судьба.
– А вы ей слегка не помогали в этом решении? – спросил Симон.
– Мы с тобой из одной местности, – рассмеялся Иоанн. – Твоя Кесария и моя Гисхала – недалеко друг от друга. Поди сюда, брат мой Симон, земляк мой, поцелуй меня.
Одно мгновение Симон колебался. Затем он раскрыл объятия, и они поцеловались.
Время близилось к полночи, и они сделали обход, проверяя сторожевые посты и укрепления. Нередко они спотыкались о спящих паломников, ибо в домах не хватало места и паломники лежали во всех подворотнях, на всех улицах, иной раз – в примитивной палатке, иной раз – просто укрывшись плащом. Ночь была свежа, воняло людьми, дымом, деревом, жареным мясом, повсюду виднелись следы гражданской войны, враг стоял под стенами города, иерусалимские улицы служили не слишком мягким ложем. Но паломники спали крепко. Эта ночь была под защитой Ягве, и как некогда египтян, так и теперь Ягве ввергнет в море римлян – людей, коней, колесницы. Симон и Иоанн старались ступать как можно осторожнее и тщательно обходили спящих.