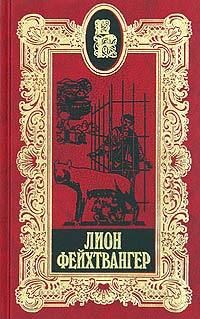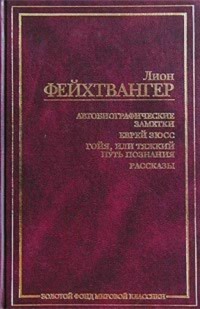Полная версия
Трилогия об Иосифе Флавии: Иудейская война. Сыновья. Настанет день
Мара, не менее испуганная, чем он, кротко спросила:
– Иосиф, господин мой, я должна умереть?
– Дурочка, – отозвался Иосиф.
Она сидела перед ним смертельно бледная, жалкая, в прозрачной сорочке. Она сказала:
– Месячные, которые должны были прийти три недели назад, не пришли. Иосиф, муж мой, данный мне Ягве, послушай: Ягве благословил чрево мое. – И так как он молчал, прибавила совсем тихо, покорно, с надеждой: – Ты не хочешь держать меня у себя?
– Иди, – сказал он.
Она упала навзничь. Через некоторое время она поднялась, дотащилась до двери. Он же, когда она хотела идти в чем была, добавил грубо, властно:
– Надень свои лучшие одежды.
Она подчинилась робко, нерешительно. Он осмотрел ее и увидел, что на ней простая обувь.
– И надушенные сандалии, – приказал он.
Веспасиан был весьма доволен ее пребыванием и насладился ею в полной мере. Он знал, что завтра, завтра его объявят императором, и тогда он навсегда покинет Восток и вернется туда, где ему надлежит быть, в свой Рим, чтобы навести в нем строгость и порядок. В глубине души он презирал его, этот Восток, но вместе с тем любил какой-то странной, снисходительной любовью. Во всяком случае, Иудея пришлась ему по вкусу, – эта странная, приносящая счастье, изнасилованная страна послужила полезной скамеечкой для его ног, страна оказалась как бы созданной для подчинения и использования, и даже эта Мара, дочь Лакиша, именно потому, что она была так тиха и полна презрительной кротости, пришлась ему по вкусу. Он смягчил свой скрипучий голос, положил ее озаренную месяцем голову на свою волосатую грудь, перебирал подагрическими руками ее волосы, ласково твердил ей те немногие арамейские слова, которые знал:
– Будь нежной, моя девочка. Не будь глупенькой, моя голубка.
Он повторил это несколько раз, по возможности мягко, но все же в этом было что-то равнодушное и презрительное. Он сопел. Он был приятно утомлен. Велел ей вымыться и одеться, позвал камердинера, приказал увести ее, а через минуту он уже забыл о ней и спал, удовлетворенный, в ожидании грядущего дня.
Ночь была очень короткой, и уже светало, когда Мара вернулась к Иосифу. Она шла с трудом, ощущая тяжесть каждой кости, ее лицо было стерто, дрябло, будто сделано из сырой плохой материи. Она сняла платье; медленно, с трудом сдергивала его; сдернула, стала разрывать обстоятельно, с трудом, на мелкие клочья. Потом взялась за сандалии, за свои любимые надушенные сандалии, рвала их ногтями, зубами, и все это медленно, молча. Иосиф ненавидел ее за то, что она не жаловалась, что не возмутилась против него. В нем жила только одна мысль: «Прочь от нее, уйти от нее! Мне не подняться, пока я буду дышать одним воздухом с ней».
Когда Веспасиан вышел из спальни, караульные встретили его почестями и приветствием, которыми встречали только императора. Веспасиан осклабился:
– С ума сошли, ребята?
Но уже появился дежурный офицер и другие офицеры, и все они повторили приветствие. Веспасиан сделал вид, что сердится. Однако тут пришли несколько полковников и генералов с Муцианом во главе. Все здание вдруг оказалось полно солдат, солдаты наводнили площадь, все вновь и все громче повторяли они приветствие императору, а городом овладевало бурное воодушевление. Тем временем Муциан в настойчивой и особенно убедительной речи потребовал от маршала, чтобы он не дал родине погибнуть в дерьме. Остальные поддержали его бурными кликами, они наступали все смелее, наконец выхватили даже мечи, и так как они, дескать, все равно уже стали бунтовщиками, то грозились его убить, если он не станет во главе их. Веспасиан ответил своим излюбленным выражением:
– Ну, ну, ну, полегче, ребята. Если вы так уж настаиваете, я не откажусь.
Одиннадцать солдат, стоявших в карауле и приветствовавших его не так, как положено, он наказал тридцатью палочными ударами и дал награду в семьсот сестерциев. Если они желали, то могли откупиться от тридцати ударов тремя сотнями сестерциев. Пятерых солдат, получивших и удары, и сестерции, он произвел в фельдфебели.
Иосифу он сказал:
– Я думаю, еврей, что теперь вы можете снять вашу цепь.
Иосиф без особого чувства благодарности поднес руку ко лбу, его смугло-бледное лицо выражало явное недовольство, резкий протест.
– Вы ждали большего? – иронически заметил Веспасиан. И так как Иосиф молчал, он грубо прибавил: – Изреките же наконец! Я ведь не пророк. – Он уже давно угадал, чего желает Иосиф, но ему хотелось, чтобы тот сам об этом попросил. Но здесь вмешался добродушный Тит:
– Доктор Иосиф, вероятно, ждет, чтобы ему разрубили цепь. – Так освобождали людей, которые были задержаны неправильно.
– Ну хорошо, – пожал плечами Веспасиан. Он позволил, чтобы снятию цепи был придан характер пышной церемонии.
Иосиф, теперь уже свободный человек, низко склонился, спросил:
– Могу я отныне носить родовое имя императора?
– Если это вам что-нибудь даст, – заметил Веспасиан, – я не возражаю.
И Иосиф бен Маттафий, священник первой череды при Иерусалимском храме, стал с того времени именоваться Иосифом Флавием.
Книга четвертая
Александрия
Длинным узким прямоугольником тянулась вдоль моря столица Востока – Александрия Египетская, после Рима – самый большой город в известных тогда частях света и, уж конечно, самый современный. Она имела двадцать пять километров в окружности. Семь больших проспектов пересекали ее в длину, двенадцать – в ширину, дома были высокие и просторные и все снабжены проточной водой.
Расположенная как бы на стыке трех частей света, на перекрестке между Востоком и Западом, у дороги в Индию, Александрия постепенно сделалась первым торговым городом в мире. На всем протяжении девятисот километров азиатского и африканского побережья между Яффой и Паретонием это была единственная гавань, защищенная от непогоды. Сюда свозили золотую пыль, слоновую кость, черепаху, аравийские коренья, жемчуг из Персидского моря, драгоценные камни из Индии, китайский шелк. Промышленность, оборудованная по последнему слову техники, поставляла свои знаменитые полотна даже в Англию, вырабатывала драгоценные ковры и гобелены, изготовляла для арабских и индусских племен национальные костюмы. Выделывала тонкое стекло, знаменитые благовония. Снабжала весь мир бумагой, начиная от тончайших сортов дамской почтовой до грубейшей оберточной.
Александрия была трудолюбивым городом. Здесь работали даже слепые, и даже обессилевшие старики находили себе дело. Это была плодотворная работа, и город не утаивал ее плодов. И если по узким улицам Рима и крутым иерусалимским улицам езда в течение дневных часов запрещалась, то в Александрии широкие бульвары были полны шумом от десятка тысяч экипажей, и по обеим главным улицам тянулась непрерывная вереница роскошных выездов. Среди обширных парков высилась гигантской громадой резиденция древних царей, гордая библиотека, музей, мавзолей со стеклянным гробом и останками Александра Великого. Приезжему нужно было несколько недель, чтобы осмотреть многочисленные достопримечательности. Тут были: еще сохранившееся святилище Сераписа, театр, ипподром, остров Фарос, увенчанный знаменитым белым маяком, гигантские промышленные и приморские кварталы, базилика, биржа, устанавливавшая цены на мировом рынке, а также квартал увеселений, который вел к роскошным пляжам курорта Каноп.
Жизнь в Александрии была легкая и зажиточная. В бесчисленных харчевнях и пивных варилось знаменитое местное ячменное пиво. Во все дни, разрешенные законом, в театрах, во дворце спорта и на арене давались представления. В своих городских дворцах, на виллах в Элевсине и Канопе и на роскошных яхтах богачи устраивали обдуманно утонченные празднества. Берег канала длиной в двадцать километров, соединявшего Александрию с Канопом, был усеян ресторанами. Александрийцы катались на лодках вверх и вниз по каналу; благодаря особому оборудованию, каюты легко занавешивались, у берега, в тени египетского ракитника, повсюду на причале стояли такие лодки. Считалось, что именно здесь, в Канопе, – елисейские поля Гомера; во всех провинциях жители грезили о канопских излишествах, копили на поездку в Александрию.
Однако богатства города служили и более благородным наслаждениям. Музей был богаче, чем художественные собрания Рима и Афин, величайшая в мире библиотека имела штат в девятьсот постоянных переписчиков. Александрийские учебные заведения были лучше римских школ. И если в сфере военной науки, а также, быть может, юриспруденции и политической экономии столица империи и стояла на первом месте, то во всех остальных научных дисциплинах Александрийская академия занимала, несомненно, ведущее место. Римские семьи из правящих кругов предпочитали врачей, изучавших анатомию по методу александрийской школы. Даже казнили в этом городе, под влиянием его медиков, более гуманно: приговоренный подвергался укусу специально содержавшейся для этого ехидны, яд которой действовал очень быстро.
Несмотря на весь свой модернизм, александрийцы были привержены старым традициям. Они тщательно поддерживали молву об особой святости и действенности своих святынь и храмов, культивировали перешедшую к ним от предков древнеегипетскую магию, цеплялись за свои ставшие пережитками обычаи. Как и в глубокой древности, они поклонялись священным животным – быку, соколу, кошке. Когда один римский солдат преднамеренно убил кошку, ничто не могло спасти его от казни.
Так, без устали бросаясь от труда к наслаждению и от наслаждения к труду, жили эти миллион двести тысяч человек: непрестанно жаждущие нового и благоговейно преданные пережиткам былого, очень неуравновешенные, мгновенно переходящие от высшего благоволения к бешеной ненависти, жадные до денег и одаренные, полные живого, ядовитого остроумия, безудержно дерзкие, служители муз, политики каждой частицей своего организма. Со всех концов света стеклись они в этот город, но быстро забыли свою родину и почувствовали себя александрийцами. Александрия была одновременно городом и восточным и западным, городом глубокомысленной философии и веселого искусства, расчетливой торговли, яростного труда, кипящего наслаждения, древнейших традиций и современнейших форм жизни. Александрийцы безмерно гордились своим городом, и их мало тревожило то, что этот беспредельный чванный патриотизм повсюду вызывает раздражение.
Среди этого человеческого коллектива жила кучка людей, еще более древняя, еще более богатая, еще более образованная и высокомерная, чем остальные: это были иудеи. Они имели за собой богатое историческое прошлое. Они поселились здесь семьсот лет назад, с тех пор как храбрые иудейские наемные войска выиграли для царя Псамметиха его великую битву. Позднее Александр Македонский и Птолемеи выселяли их сюда сотнями тысяч. Теперь их число в Александрии доходило почти до полумиллиона. Обособленность их культа, богатство и высокомерие вызывали все вновь и вновь жестокие погромы. Всего три года назад, когда в Иудее разразилось восстание, в Александрии произошла дикая резня, во время которой погибло до пятидесяти тысяч евреев. В части города, называемой Дельта, где главным образом и жили евреи, до сих пор еще оставались опустошенными целые районы. Многих разрушений евреи не восстанавливали нарочно, и также не стирали они со стен своих синагог забрызгавшей их тогда крови. Они даже гордились такими нападениями, это служило доказательством их силы. Ибо в действительности Египтом правили они, так же как некогда правил страною при своем фараоне Иосиф, сын Иакова. Фельдмаршал Тиберий Александр, египетский генерал-губернатор, был по происхождению еврей, и люди, руководившие страной, чиновники, владельцы текстильных фабрик, откупщики податей, торговцы оружием, банкиры, хлебные тузы, судовладельцы, фабриканты папируса, врачи, преподаватели академии были евреями.
Главная александрийская синагога являлась одним из мировых чудес архитектурного искусства; она вмещала более ста тысяч человек и считалась наравне с Иерусалимским храмом одним из величайших зданий в мире. В ней стояло семьдесят одно кресло из чистого золота для верховного наставника и председателей общинных советов. Ни один, даже самый мощный, человеческий голос не мог покрыть всего пространства этого гигантского здания, и приходилось сигнализировать флажками, когда толпе надлежало отвечать священнику «аминь».
Высокомерно, сверху вниз, взирали александрийские иудеи на своих римских сородичей, на этих западных иудеев, которые жили по большей части в бедности и никак не могли вырваться из тисков пролетарского существования. Они, александрийские иудеи, мудро и гармонично согласовали свое иудейство с формами жизни и мировоззрением греческого Востока. Уже сто пятьдесят лет назад перевели они Библию на греческий язык и нашли, что их Библия отлично сочетается с греческим миром.
И несмотря на это, а также на то, что у них был в Леонтополе собственный храм, центром для них оставалась гора Сион. Они любили Иудею, они взирали с глубоким состраданием на то, как из-за политической неумелости Иерусалима еврейскому государству стал грозить распад. У них была одна главная забота – сохранить хотя бы храм. Они, подобно всем остальным иудеям, делали взносы на храм и паломничали в Иерусалим, у них были там свои гостиницы, синагоги, кладбища. Многие части храма были возведены их щедротами: врата, колонны, залы. Без Иерусалимского храма жизнь казалась немыслимой и александрийским евреям.
Здесь они расхаживали с высоко поднятой головой и не подавали вида, насколько события в Иудее их волнуют. Дела были в цветущем состоянии, новый император относился к ним хорошо. Красуясь в роскошных экипажах, проезжали они по главной магистрали, по-княжески сидели на высоких стульях внутри базилики и биржи, давали пышные празднества в Канопе и на острове Фаросе. Но, оставаясь между своими, эти надменные люди мрачнели. Они тяжело вздыхали, опускали гордые плечи.
Когда Иосиф, находившийся в свите нового императора, сошел с корабля, александрийские евреи приняли его сердечно и почтительно. Они, видимо, знали совершенно точно о том участии, которое Иосиф принимал в провозглашении Веспасиана императором, они даже переоценивали это участие. Его молодость, его сдержанная внутренняя сила, строгая красота его худощавого страстного лица – все это потрясало людей. И, как некогда в Галилее, жители еврейских кварталов Александрии кричали и теперь, завидев его: «Марин, марин, господин наш!»
После мрачного фанатизма Иудеи, после суровости лагерной жизни римлян он теперь с наслаждением дышал вольной ясностью мирового города. Свою прежнюю смутную и дикую жизнь, свою жену Мару он оставил в Галилее. Не интриги текущей политики, не грубые задачи военной организации – его областью было духовное. С гордостью носил он на поясе золотой письменный прибор, поднесенный ему как почетный дар молодым генералом Титом, когда они уезжали из Иудеи.
Пышно проезжал Иосиф по главной улице бок о бок с великим наставником Феодором бар Даниилом. Он показывался в библиотеке, в банях, в роскошных ресторанах Канопа. Еврея с золотым письменным прибором скоро узнали повсюду. В аудиториях преподаватели и студенты не раз вставали при его появлении. Фабриканты, купцы гордились, когда он осматривал их фабрики, магазины, амбары; ученые чувствовали себя польщенными, когда он присутствовал на их лекциях. Он вел жизнь вельможи. Мужчины внимали ему, женщины бросались ему на шею.
Да, он не ошибся в своем предсказании. Веспасиан действительно оказался мессией. Правда, освобождение через этого мессию совершалось несколько иначе, чем он предполагал: медленно, трезво, буднично. Оно состояло в том, что этот человек разбил скорлупу иудаизма, так что ее содержание растеклось по всей земле, эллинизм и иудаизм смешались и слились. В жизнь Иосифа и в его представление о мире все более проникал ясный и скептический дух восточных греков. Иосиф уже не понимал, как мог когда-то испытывать отвращение ко всему нееврейскому. Герои греческих мифов и библейские пророки вовсе не исключали друг друга, между небом Ягве и Олимпом Гомера не было противоречия. И Иосиф начинал ненавидеть те границы, которые раньше знаменовали для него исключительность, избранность. На самом деле задача заключалась в том, чтобы перелить свое хорошее в других, а чужое хорошее впитать в себя.
Он оказался первым, предвосхитившим подобное мировоззрение. Это был человек нового типа: уже не еврей, не грек, не римлянин – просто гражданин вселенной.
Город Александрия являлся издавна штаб-квартирой врагов иудейского народа. Здесь Апион, Аполлоний Молон, Лисимах, египетский верховный жрец Манефон учили, что евреи происходят от прокаженных, что они в своем святая святых поклоняются ослиной голове, они откармливают в своем храме молодых греков и убивают их на праздник пасхи, пьют их кровь и ежегодно заключают при этом тайный еврейский союз против всех остальных народов. Тридцать лет назад два директора высшей спортивной школы, Дионисий и Лампой, с искусством профессионалов организовали антиеврейское движение. Белый башмак высшей школы спорта постепенно стал символом, и теперь антисемиты всего Египта назывались «белобашмачниками».
С появлением еврея Иосифа белобашмачникам прибавилась еще одна забота. Когда он с надменным видом разъезжал по городу и принимал почести, он казался им воплощением еврейского зазнайства. В своих клубах, на своих сборищах они распевали куплеты, порой не лишенные остроумия, о еврейском герое и борце за свободу, перебежавшем к римлянам, о ловком маккавее, который повсюду втирался и держал нос по ветру.
И вот однажды, когда Иосиф собирался войти в Агрипповы бани, ему пришлось пройти в вестибюле мимо группы молодых людей – белобашмачников. Едва завидев его, они принялись напевать, отвратительно гнусавя, пискливыми гортанными голосами: «Марин, марин!» – явно пародируя восторженные приветствия, которыми евреи встречали Иосифа.
Смугло-бледное лицо Иосифа побледнело еще больше. Но он шел, выпрямившись, не поворачивая головы ни вправо, ни влево. Белобашмачники, увидев, что он на них не обращает внимания, удвоили свои выкрики. Одни орали:
– Не подходите к нему слишком близко, а то он вас заразит!
Другие:
– Как вам понравилась наша свинина, господин маккавей?
Со всех сторон раздавался крик, визг:
– Иосиф-маккавей! Обрезанный Ливий!
Иосиф видел перед собой стену издевающихся, горящих ненавистью лиц.
– Вам что угодно? – спросил он очень спокойно ближайшее к нему лицо, смугло-оливковое.
Спрошенный отвечал с преувеличенно дерзкой покорностью:
– Я хотел только узнать, господин маккавей, ваш отец был тоже прокаженным?
Иосиф посмотрел ему в глаза, не сказал ничего. Другой белобашмачник спросил, указывая на золотой письменный прибор, висевший у Иосифа на поясе:
– Не унес ли это с собой один из ваших почтенных предков, когда его выгнали из Египта?
Иосиф все еще молчал. Вдруг неожиданно быстрым движением он вытащил из-за пояса тяжелый письменный прибор и ударил им вопрошавшего по голове. Тот упал. Кругом стояла беззвучная тишина. Надменно, даже не взглянув на поверженного, прошел Иосиф во внутреннее помещение бань. Белобашмачники устремились было за ним, их удержали банщики и посетители.
Потерпевший, некий Херей, из знатной семьи, был серьезно ранен. Против Иосифа было начато судебное следствие, но скоро прекращено. Император сказал Иосифу:
– Все это очень хорошо, мой мальчик. Но письменный прибор мы вам подарили все-таки не для этого.
Александрийские иудеи ежегодно торжественно праздновали на острове Фаросе окончание греческой Библии. Перевод Священного Писания на греческий язык был начат три столетия назад по инициативе второго Птолемея и директора его библиотеки, Деметрия Фалерского. Семьдесят два еврейских ученых, владеющих с одинаковым совершенством древнееврейским и греческим языками, выполнили это нелегкое дело, благодаря которому до египетских евреев, уже не понимавших основного текста, все же могло дойти слово Божие. Все семьдесят два ученых работали в уединении, каждый – строго обособленно, и все-таки в конце концов текст каждого буквально совпал с текстом остальных. И вот это чудо, с помощью которого Ягве показал, что он одобряет дружбу и совместную жизнь евреев с греками, и праздновали ежегодно александрийские иудеи.
Все знатнейшие мужчины и женщины Александрии, даже неевреи, отправлялись в этот день на остров Фарос. Отсутствовали только белобашмачники. В празднестве участвовали также император, принц Тит, знатнейшие аристократы Рима и всех провинций, привлеченные сюда пребыванием двора в Александрии.
На долю Иосифа выпала задача выразить благодарность иноплеменникам, приглашенным на праздник. Он говорил весело, но содержательно, с волнением подчеркнув роль объединяющей народы Библии и объединяющего народы всемирного города Александрии.
Чтобы хорошо говорить, ему необходимо было видеть лица своих слушателей, и, обычно проверяя впечатление от своих слов, он избирал в толпе наугад какое-нибудь лицо. На этот раз взгляд его упал на чье-то мясистое и все же строгое, очень римское лицо. Но лицо это замкнулось и оставалось во все время его речи неподвижным. Брезгливо и словно не видя, смотрело это римское лицо сквозь него, поверх него, и притом с таким тупым высокомерием, что Иосиф чуть не потерял нить своих мыслей.
Окончив свою речь, Иосиф осведомился, кто этот господин. Оказалось, что это Гай Фабулл, придворный живописец императора Нерона, и что его кисти принадлежат фрески в Золотом доме. Иосиф внимательно рассмотрел человека, слушавшего его речь с таким невежливым равнодушием. На грузном, толстом, почти бесформенном теле сидела энергичная, суровая голова. Гай Фабулл был особенно тщательно одет, держался чопорно и с достоинством, что при его тучности производило несколько комическое впечатление.
Будучи в Риме, Иосиф наслышался о причудах Гая Фабулла. Во внешнем облике этого художника, убежденного эллиниста, служителя легкого и жизнерадостного искусства, была какая-то подчеркнутая торжественность. Он писал только в парадной одежде, держался чрезвычайно надменно, не разговаривал со своими рабами, объясняясь с ними только знаками и кивками. Несмотря на прославленность и изысканность его искусства – не было ни одного самого маленького провинциального городка, в котором не оказалось бы картины или фрески, написанной в его манере, – ему все же не удалось проникнуть в знатнейшие римские дома. В конце концов он женился на эллинизированной египтянке и тем навсегда закрыл себе доступ в среду высшей аристократии.
Иосиф удивился, что Фабулл вообще находится здесь: ему сказали, будто художник – один из яростнейших приверженцев белобашмачников. Иосиф испытывал отвращение ко всякого рода живописи – она ничего ему не говорила. Заповедь «Не сотвори себе кумира» пустила в его душе глубокие корни. Писателей и в Риме ценили очень высоко, художников же считали как бы принадлежащими к низшей касте; и с тем более презрительной неприязнью рассматривал Иосиф тщеславного художника.
К Иосифу обратился император. В поднесенном ему особенно роскошном экземпляре греческой Библии он зорким взглядом отыскал некоторые эротические места и теперь скрипучим голосом попросил у Иосифа объяснений.
– Да вы успели обрасти жирком, еврей мой, – сказал он удивленно. Затем повернулся к Фабуллу, стоявшему поблизости: – Вы бы видели моего еврея в Галилее, мастер. Вот где он был великолепен: косматый, тощий, изможденный. Прямо пророка с него рисуй.
Фабулл слушал – неподвижный, брезгливый; Иосиф вежливо улыбался.
– Я здесь, – продолжал Веспасиан, – взял себе врача Гекатея. Он заставляет меня раз в неделю поститься. Это действует на меня отлично. Как вы думаете, Фабулл? Если мы этого парня заставим недельку попоститься, напишете вы мне его тогда?
Фабулл стоял неподвижно, его лицо скривилось легкой гримасой. Иосиф сказал мягко:
– Меня радует, ваше величество, что вы сегодня уже в состоянии так добродушно шутить, вспоминая Иотапату.
Император рассмеялся:
– При перемене погоды все еще дает себя знать моя нога, на которую ваши солдаты бухнули каменное ядро. – Он указал на даму, стоявшую рядом с художником: – Ваша дочь, Фабулл?
– Да, – ответил художник сухо, сдержанно, – моя дочь Дорион.
Все взгляды обратились к девушке. Дорион была довольно высокого роста, стройная и хрупкая, золотисто-смуглая кожа, узкое тонкое лицо, покатый высокий лоб, глаза цвета морской воды. Выступающие надбровные дуги, тупой, слегка широковатый нос, легкий и чистый профиль; и на этом нежном надменном лице резко выступал большой дерзкий рот.
– Хорошенькая девушка, – сказал император и добавил, прощаясь: – Так вот, обдумайте-ка, Фабулл, будете ли вы писать моего еврея.
Затем он отбыл. Остальные продолжали еще стоять некоторое время немой и растерянной группой. Фабулл явился на праздник только из внимания к новому режиму. Он с трудом уговорил Дорион его сопровождать. Теперь он раскаивался, что приехал. Он вовсе не намерен писать портрет этого ленивого тщеславного еврейского литератора. Иосиф, со своей стороны, отнюдь не хотел, чтобы его писал этот наглый, тупоумный художник. Однако он не мог отрицать, что Дорион производит впечатление… «Хорошенькая девушка», – сказал император. Это пóшло и к тому же неверно… Как она стояла там, нежная до хрупкости, непринужденно и все же строго, и только ее большой рот улыбался едва уловимой, торжествующей и циничной улыбкой… Иосиф неприязненно любовался ее несколько дикой прелестью.