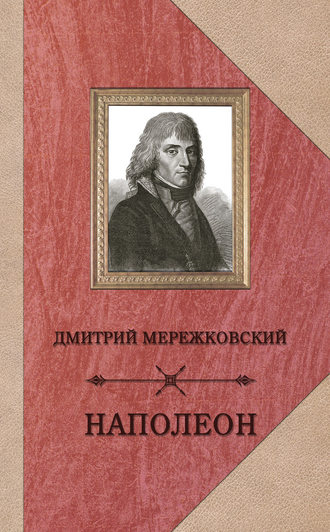
Полная версия
Наполеон

Дмитрий Сергеевич Мережковский
Наполеон

Судьи Наполеона
Свершитель роковой безвестного веленья.ПушкинПоказать лицо человека, дать заглянуть в душу его – такова цель всякого жизнеописания, «жизни героя», по Плутарху.
Наполеону, в этом смысле, не посчастливилось. Не то чтобы о нем писали мало – напротив, столько, как ни об одном человеке нашего времени. Кажется, уже сорок тысяч книг написано, а сколько еще будет? И нельзя сказать, чтобы без пользы. Мы знаем бесконечно много о войнах его, политике, дипломатии, законодательстве, администрации; о его министрах, маршалах, братьях, сестрах, женах, любовницах и даже кое-что о нем самом. И вот что странно: чем больше мы узнаем о нем, тем меньше знаем его.
«Этот великий человек становится все более неизвестным», – говорит Стендаль, его современник. «История Наполеона – самая неизвестная из всех историй», – говорит наш современник Леон Блуа[1].
Это значит: в течение больше ста лет «неизвестность» Наполеона возрастает.
Да, как это ни странно, Наполеон, при всей своей славе, неведом. Сорок тысяч книг – сорок тысяч могильных камней, а под ними «неизвестный солдат».
Может быть, это происходит и оттого, что, по слову Гераклита, «конца души не найдешь, пройдя весь путь, – так глубока». Мы ведь и души самых близких людей не знаем, ни даже своей собственной души.
Или, может быть, душа его вообще неуловима книгами: проходит сквозь них, как вода сквозь пальцы? Тайна ее под испытующим взглядом истории только углубляется, как очень глубокие и прозрачные воды под лучом прожектора.
Да, неизвестность Наполеона происходит и от этого; но, кажется, не только от этого. В чужую душу нельзя войти, но можно входить в нее или проходить мимо. Кажется, мы проходим мимо души Наполеона.
Узнавать чужую душу – значит оценивать ее, взвешивать на весах своей души. А в чьей душе весы для такой тяжести, как Наполеон?
«Я ни с чем не могу сравнить чувства, испытанного мною в присутствии этого колоссального существа», – вспоминает один современник, даже не очень большой поклонник его, скорее обличитель[2].
Таково впечатление всех, кто приближается к нему, друзей и недругов одинаково: может быть, это даже не величие, но уж наверное огромность, несоизмеримость его души с другими человеческими душами. Он среди нас – как Гулливер среди лилипутов.
Маленькими глазками, увеличивающими, как микроскопы, лилипуты видят каждую клеточку гулливеровой кожи, но лица его не видят; оно им кажется страшным и мутным пятном; маленькими аршинами могут они измерить тело его с математической точностью; но вообразить, почувствовать себя в этом теле не могут.
Так мы не можем себя почувствовать в душе Наполеона. А ведь именно это и нужно, чтобы ее узнать: не увидев чужой души изнутри, ее не узнаешь.
Кажется, только один человек мог судить Наполеона как равный равного – Гете. Что Наполеон в действии, то Гете в созерцании: оба устроители хаоса – Революции. Вот почему в дверях из одной комнаты в другую, из Средних веков в наше время, стоят они друг против друга, как две исполинские кариатиды.
«В жизни Гете не было большего события, чем это реальнейшее существо, называемое Наполеоном», – говорит Ницше.
«Наполеон есть краткое изображение мира». «Жизнь его – жизнь полубога. Можно сказать, что свет, озарявший его, не потухал ни на минуту: вот почему жизнь его так лучезарна. Мир никогда еще не видел и, может быть, никогда уже не увидит ничего подобного». Таков суд Гете – Наполеону равного. А у нас, неравных, дело с ним обстоит еще хуже, чем у лилипутов с Гулливером. Тут разница душ не только в величине, росте, количестве, но и в качестве. У него душа иная, чем у людей, – иной природы. Вот почему он внушает людям такой непонятный, ни на что земное не похожий, как бы нездешний, страх.
«Страх, внушаемый Наполеоном, – говорит госпожа де Сталь, – происходит от особого действия личности его, которое испытывали все, кто к нему приближался. Я в своей жизни встречала людей достойных уважения и презренных; но в том впечатлении, которое производил на меня Бонапарт, не было ничего напоминающего ни тех ни других». – «Скоро я заметила, что личность его неопределима словами, которые мы привыкли употреблять. Он не был ни добрым, ни злым, ни милосердным, ни жестоким в том смысле, как другие люди. Такое существо, не имеющее себе подобного, не могло, собственно, ни внушать, ни испытывать сочувствия; это был больше или меньше, чем человек: его наружность, ум, речи – все носило на себе печать какой-то чуждой природы».
«Он миру чужд был. Все в нем было тайной», – понял Наполеона никогда не видевший его семнадцатилетний русский мальчик, Лермонтов. «Существо реальнейшее», вошедшее в мир как никто, владыка мира – «миру чужд». «Царство мое не от мира сего», – мог бы сказать и он, хотя, конечно, не в том смысле, как это было однажды сказано.
Эту «иную душу» в себе он и сам сознает. «Я всегда один среди людей», – предсказывает свою жизнь никому не ведомый семнадцатилетний артиллерийский поручик Бонапарт. И потом, на высоте величия: «Я не похож ни на кого; я не принимаю ничьих условий».
И о государственном человеке – о себе самом: «Он всегда один с одной стороны, а с другой – весь мир».
Эта «иная душа» не только устрашает, отталкивает людей, но и притягивает; внушает им то любовь, то ненависть. «Все любили меня, и все ненавидели».
Божий посланник, мученик за человечество, новый Прометей, распятый на скале Святой Елены, новый Мессия; и разбойник вне закона. Корсиканский людоед, апокалипсический зверь из бездны, Антихрист. Кажется, ни из-за одного человека так не боролась любовь и ненависть. Противоположные лучи их скрещиваются на лице его слишком ослепительно, чтобы мы могли его видеть. Видит ли он сам себя?
«Тысячелетия пройдут, прежде чем повторятся такие обстоятельства, как мои, и выдвинут другого человека, подобного мне». Он говорит это без гордости, или гордость его так похожа на смирение, что их почти не различить.
«Если бы мне удалось сделать то, что я хотел, я умер бы со славой величайшего человека, какой когда-либо существовал. Но и теперь, при неудаче, меня будут считать человеком необыкновенным». Эго, пожалуй, слишком смиренно. А вот еще смиреннее: «Скоро меня забудут, мало найдут историки, что обо мне сказать». – «Если бы в Кремле пушечное ядро убило меня, я был бы так же велик, как Александр и Цезарь, потому что мои учреждения, моя династия удержались бы во Франции… Тогда как теперь я буду почти ничем». Это он говорит на Святой Елене живой в гробу; говорит о себе спокойно, бесстрастно, как о третьем лице, как живой о мертвом; или еще спокойнее, как мертвый о живом. «Чуждый миру», чужд и себе. Смотрит на себя со стороны: я для него уже не я, а он.
Кажется иногда, что он и сам себя не знает, так же как мы – его. Знает только, что тяжко земле носить такого, как он. «Когда я умру, весь мир вздохнет с облегчением: „Уф!“» – «Будущее покажет, не лучше ли было бы для спокойствия мира, чтобы меня никогда не существовало».
Это с одной стороны, а с другой: «Пожалеют, пожалеют когда-нибудь люди о моих несчастьях и моем паденье!» – «Будете плакать обо мне кровавыми слезами!»
Fu vera gloria?Ai posteri ardua sentanzia.Была ли слава его истинной?Трудный суд над ней принадлежит потомкам.Мандзони. «Пятое мая»Но и потомки оказались не лучшими судьями, чем современники.
«Чудовищная помесь пророка с шарлатаном». – «Лжив как военный бюллетень» – это недаром во дни его сделалось пословицей. – «Крепкая, ясная, простая итальянская природа его разложилась в мутной атмосфере французского фанфаронства». Изолгался окончательно и «провалился в пустоту». – «Бедный Наполеон! Наш последний герой!» Таков суд Карлейля в его знаменитой книге «Поклонение героям». Если суд верен, то трудно понять, как мог очутиться в сонме героев этот «провалившийся в пустоту шарлатан». Впрочем, образ Наполеона начерчен здесь так скудно, грубо и поверхностно, что едва ли стоит долго останавливаться на нем.
Тэн сильнее Карлейля. Книга его о Наполеоне[3], кажется, и есть то последнее, что легло на душу читателей и не скоро из нее изгладится. Действием своим на умы и сердца книга эта обязана, может быть, не столько таланту и учености автора, сколько своему созвучию с духом времени: Тэн высказал о Наполеоне то, что у всех было на уме.
«Безмерный во всем, но еще более странный, не только преступает он за все черты, но и выходит из всех рамок; своим темпераментом, своими инстинктами, своими способностями, своим воображением, своими страстями, своею нравственностью он кажется отлитым в особой форме, из другого металла, чем его сограждане современники». – «По глубине и широте гениальных замыслов, по героической силе духа, ума и воли со времен Цезаря не было ничего подобного».
Таково начало, а вот конец: «Дело наполеоновской политики есть дело эгоизма, которому служит гений; в его общеевропейском здании, так же как во французском, надо всем господствовавший эгоизм испортил всю постройку». Наполеон среди людей – «великолепный хищный зверь, пущенный в мирно жующее стадо». – «Он обнаруживает безмерность и свирепость своего самолюбия», когда в 1813 году, в Дрездене, говорит Меттерниху: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей!» – «Положительно, с таким характером, как у него, нельзя жить; гений его слишком велик и зловреден; чем больше, тем зловреднее». – «Это эгоизм, выросший в чудовище и воздвигший среди человеческого общества колоссальное я, которое удлиняет постепенно, кругами, свои хищные и цепкие щупальца; всякое сопротивление оскорбляет его, всякая свобода стесняет, и в присвояемой себе безграничной области оно не терпит никакой жизни, если только она не придаток и не орудие его собственной жизни». Другими словами, исполинский паук, захвативший мир в свои лапы и сосущий его, как муху, или адская машина, изобретенная диаволом, чтобы разрушить мир; или, наконец, апокалипсический зверь, выходящий из бездны; «Наполеон-Аполлион, Губитель», как толковали имя его тогдашние начетчики Апокалипсиса.
«Вот видите, матушка, какое вы породили чудовище!» – смеялся он, читая подобные пасквили.
В 1814 году, после первого отреченья, когда комиссары союзников везли его на остров Эльбу, роялисты сколотили в маленьком городке Прованса Оргоне виселицу и повесили на ней чучело Наполеона под крики толпы: «Долой Корсиканца! Долой разбойника!» А оргонский мэр говорил речь: «Я его своими руками повешу, отомщу за то, что было тогда!» Тогда, при возвращении Бонапарта из Египта, тот же мэр, произнося ему приветственную речь, стоял перед ним на коленях. Нечто подобное происходит и с Тэном: в начале книги он поклоняется герою, а в конце – вешает чучело его.
«Привычка к самым жестоким фактам менее сушит сердце, чем отвлеченности: военные люди лучше адвокатов», – говаривал Наполеон, как будто предчувствовал, что сделают с ним «адвокаты-идеологи».
Знаменье времени – то, что на книгу Тэна никто не ответил, потому что беспомощную, хотя и добросовестную, книгу Артура Леви [«Napoleon intime»], где доказывается, что Наполеон есть не что иное, как «добрый буржуа до мозга костей», нельзя считать ответом.
И еще знаменье: в приговоре над Наполеоном Восток согласился с Западом, с неверующим Тэном – верующий Лев Толстой. Суд над Наполеоном пьяного лакея Лаврушки в «Войне и мире» совпадает с приговором самого Толстого: Наполеон совершает только «счастливые преступления». – У него «блестящая и самоуверенная ограниченность». – «Ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему великую славу». У него «глупость и подлость, не имеющие примеров»; «последняя степень подлости, которой учится стыдиться всякий ребенок».
Русскому пророку так же никто не ответил, как европейскому ученому. И человеческое стадо жадно ринулось, куда поманили его пастухи. «Толпа в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могучего: „Он мал, как мы, он мерзок, как мы!“ Врете, подлецы: он мал и мерзок – не так, как вы – иначе!» (Пушкин).
Леон Блуа – совершенная противоположность Тэну и Толстому. Книга его «Душа Наполеона», странная, смутная, безмерная, иногда почти безумная, но гениально глубокая, – одна из замечательнейших книг о Наполеоне.
Острота и новизна ее в том, что автор делает методом исторического познания миф – кажущийся миф, действительный религиозный опыт, свой личный и всенародный. Он знает, как знали посвященные в Елевзинские таинства[4], что миф – не лживая басня, а вещий символ, прообраз утаенной истины, покров на мистерии, и что, не подняв его, не проникнешь в нее. Через душу свою и своего народа – к душе героя, через Наполеонов миф – к Наполеоновой мистерии – таков путь Блуа.
«Наполеон необъясним; самый необъяснимый из людей, потому что он прежде и больше всего прообраз Того, Кто должен прийти и Кто, может быть, уже недалеко; прообраз и предтеча, совсем близкий к нам». – «Кто из нас, французов или даже иностранцев конца XIX века, не чувствовал безмерной печали в развязке несравненной Эпопеи? Кого из обладающих только атомом души не угнетала мысль о падении, воистину, слишком внезапном, великой Империи с ее Вождем? Не угнетало воспоминание, что еще только вчера люди, казалось, были на высочайшей вершине человечества и, благодаря одному лишь присутствию этого Чудесного, Возлюбленного, Ужасного, какого никогда не было в мире, могли считать себя, как первые люди в раю, владыками всего, что создал Бог под небом, и что сейчас, после этого, надо было снова упасть в старую грязь Бурбонов?»
Потерянный и возвращенный рай – вот покров Наполеонова мифа над мистерией; вот где душа народа соприкоснулась с душой героя.
«Бред сумасшедшего или лубочная картинка» – может быть, решил бы Тэн о книге Блуа и был бы неправ. Не бывает ли, не была ли от 1793-го до 1815-го «психология масс» похожа на «бред сумасшедшего», и «лубочная картинка» не драгоценный ли документ для историка?
Тем-то и драгоценен Блуа, что продолжает в душе своей Наполеонову «психологию масс», воскрешает Наполеонов миф. Когда он говорит о «своем Императоре», на глазах у него блестят такие же слезы, как у старых усачей-гренадеров Великой армии; тем-то он и драгоценен, что доказывает, что Наполеон все еще жив в душе французов, в душе Франции, и, может быть, сейчас даже живее, чем когда-либо; что все еще из-под сорока тысяч книг – могильных камней – встает Неизвестный Солдат:
Из гроба встает Император.«И то важно знать не одним французам, но и всем европейцам, потому что Герой может им всем понадобиться: „Будете плакать обо мне кровавыми слезами!“»
Блуа считает себя «добрым католиком», а добрые католики считают его злейшим еретиком. Но нет никакого сомнения, что он христианин или по крайней мере хочет быть христианином. Но иногда и христианину трудно решить, молится Блуа или кощунствует. Во всяком случае, он слишком легко и смело решает, что Наполеон есть «предтеча Того, Кто должен прийти». – Кого именно, остается неясным, но, кажется, Параклета, нового Адама, который возвратит ветхому Адаму, человечеству, потерянный рай. Слишком легко и безболезненно решает он: «Я не могу себе представить рая без моего Императора». Наполеон в раю, рядом с Жанною д'Арк – это не только для «добрых католиков» не доказанное, а подлежащее доказательству. В том-то и вопрос, как соединить Жанну д'Арк с Наполеоном в раю.
Трудно также решить, молится Блуа или кощунствует, когда говорит: «Глянул Бог в кровавое зеркало войны, и оно отразило Ему лицо Наполеона. Бог любит его, как свой собственный образ; любит этого Насильника так же, как Своих кротчайших апостолов, мучеников, исповедников».
Да, может быть, это и кощунство; но прежде чем решать, вспомним: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеянье Свое» (Ис. 63:3).
Вот почему и кротчайший из апостолов помнит, что «страшно впасть в руки Бога живого». Если бы и мы этого не забывали, то, может быть, не отразился бы в наши дни лик Божий в кровавом зеркале войны так ужасно, как еще никогда.
Во всяком случае, нельзя делать, как это делает Тэн, одного Наполеона ответственным за два миллиона людей, погибших в войнах его. Получив в наследство от Революции войну Франции с легитимной Европой, он не мог бы прекратить эту войну, если бы даже хотел. Когда он говорит: «Будь я побежден под Маренго, 1814 и 1815 годы наступили бы тогда же», он прав. Язву гражданской войны он исцелил на теле, может быть, не только Франции, но и всей Европы, а мы теперь знаем по опыту, насколько гражданская война ужаснее международной. Наполеоновские войны – детская игра по сравнению с великой международной и русской гражданской войной, в которой убито 15 миллионов, 30 – погибло от эпидемий, 5 – от голода. И этому нисколько не помешало, а может быть и помогло, то, что Наполеона среди нас не было.
Как бы то ни было, Блуа, несомненно, прав в одном: история Наполеона или навсегда останется «самою темною из всех историй», или осветится светом христианства, потому что Наполеонов миф все еще близок в душе народа к христианской мистерии, а к душе героя нет иного пути, как через душу народа. Это значит, что последним судом будут судить Наполеона не «адвокаты-идеологи», авторы сорока тысяч книг, не те, кто говорит, а тот, кто молчит, – народ.
Что же думает народ о Наполеоне? Это трудно узнать не только потому, что народ молчит, но и потому, что мысли его слишком далеки от наших.
Народ называет Наполеона просто «Человеком», l'Homme, как будто желая этим сказать, что он больше других людей исполнил меру человечества; и еще – «маленьким капралом», давая тем понять, что он простым людям свой брат. И с этим герой соглашается: «Я слыл страшным человеком только в ваших гостиных, среди офицеров и, может быть, генералов, но отнюдь не среди нижних чинов. У них был верный инстинкт правды и сочувствия; они знали, что я их заступник и никому в обиду не дам». – «Народные струны отвечают моим; я вышел из народа, и мой голос действует на него. Взгляните на этих новобранцев, крестьянских детей: я им не льстил; я был с ними суров, а они все-таки шли за мной, кричали мне: „Виват император!“ Это потому, что у меня с ними одна природа».
Да, люди шли за ним, как за одним человеком вот уже две тысячи лет; шли через моря и реки, через горы и степи, от Пирамид до Москвы; пошли бы и дальше, до края земли, если бы он их повел; шли, терпя несказанные муки, жажду, голод, холод, зной, болезни, раны, смерть, – и были счастливы. И он это знал: «Как ни велико было мое материальное могущество, духовное – было еще больше. Оно доходило до магии».
Когда он говорит в огне сражения: «Солдаты, мне нужна ваша жизнь, и вы должны ею пожертвовать», люди знают, что должны. «Никогда никому солдаты не служили так верно, как мне. С последней каплей крови, вытекавшей из их жил, они кричали: „Виват император!“».
За человеческую память не было такого ужаса, как гибель 600-тысячной Великой армии в Русском походе 1812 года. Наполеон знал, знала вся армия, что не пожар Москвы, не мороз, не измена союзников виноваты в этой гибели, а он, он один. Что же, возмущалась, роптала? Нет, только старые усачи-гренадеры тихонько ворчали, а все-таки шли, теперь уже не за ним, а рядом с ним, потому что он шел среди них пешком, по снегу, с палкой в руках. «На Березине оставалась только тень Великой армии; но он все еще был в ней тем же, чем надежда была в сердце человека». Идучи рядом с солдатами, ничего не боялся от них, говорил с ними ласково, и они отвечали ему так же. «Скорее обратили бы оружие на себя, чем на него». – «Падали и умирали у ног его, но и в предсмертном бреду не роптали на него, а молились» (Сегюр, «Histoire et Memoires»).
Франция содрогнулась от ужаса, когда получила 29-й бюллетень о гибели Великой армии. В конце его было сказано: «Здравие его величества никогда не было в лучшем состоянии». – «Семьи, осушите слезы: Наполеон здоров!» – горько смеялся Шатобриан. А простые люди плакали, когда Наполеон, вернувшись в Париж, говорил им перед новым набором: «Вы меня избрали, я дело ваших рук, вы должны меня защищать!»
В кампании 1812 года погибло 300 тысяч человек, а новый набор объявлен в 180 тысяч. Только очень молодые люди попали в него: старших давно уже забрали. «Эти храбрые дети жаждут славы: ни направо, ни налево не смотрят, а всегда вперед», – восхищался ими маршал Ней; восхищался ими и Наполеон: «Храбрость из них так и брызжет!»
Когда же и эти погибли под Лейпцигом, пришлось забирать на 1814-й уже совсем молоденьких мальчиков, безусых, похожих на девочек, «Марий Луиз». Многие из них и ружья зарядить не умели. Но в несколько дней похода доросли до старых солдат 1796-го, победителей мира.
Что говорит один современник о триумфальном шествии Наполеона с Эльбы в Париж, можно бы сказать обо всей его жизни: «Шествие человеческих множеств за ним – как огненный след метеора в ночи».
Народ верен ему до конца и после Ватерлоо пошел бы за ним. На пути из Мальмезона в Рошфор – на Святую Елену – толпы за ним бежали и кричали сквозь слезы: «Виват император! Останьтесь, останьтесь с нами!»
Члены палат, министры, маршалы, братья, сестры, любовницы – все изменяют ему, а народ остается верен. Чем люди выше, ближе к нему, тем хуже видят его, меньше любят; чем ниже, дальше от него, тем видят лучше и любят больше. «Утаил от премудрых и открыл младенцам».
Старую негритянку-египтянку роялисты в Марселе, во время белого террора 1815-го, заставляли кричать: «Виват король!» Но она не хотела – кричала: «Виват император!» Ее повалили ударом штыка в живот. Она приподнялась и, держа обеими руками выпадавшие внутренности, крикнула: «Виват император!» Ее бросили в вонючую воду старого порта, и, утопая, в последний раз она, вынырнув, крикнула: «Виват император!»
Да, люди так никого не любили, так не умирали ни за кого, вот уже две тысячи лет.
Страшно то, что он говорит: «Такой человек плюет на жизнь миллиона людей!» Но, может быть, еще страшнее то, что миллионы людей отвечают ему: «Мы плюем на свою жизнь за такого человека, как ты!»
Что же они любят в нем? За что умирают? За Отечество, за Человека, Брата? Да, но и еще за что-то большее.
Кажется, верно угадал поэт, за что умирала Старая Гвардия под Ватерлоо.
Comprenant qu-ils allaient mourir dans cette fête,Saluèrent leur dieu, debout dans la tempête.И, зная, что умрут, приветствуют его,Стоящего в грозе, как бога своего.Гюго. «Возмездие»Но если бы тем двум гренадерам, которые под Сен-Жан-д'Акром закрыли его своими телами, чтобы защитить от взрыва бомбы, сказали, что он для них бог, они бы не поняли и, может быть, рассмеялись бы, потому что, как старые добрые санкюлоты, ни в какого Бога не верили.
В ночь накануне Аустерлица, когда император объезжал войска, солдаты вспомнили, что этот день – первая годовщина коронованья, зажгли привязанные к штыкам пучки соломы и сучья бивуачных костров, приветствуя его восьмьюдесятью тысячами факелов. Он уже знал, и через него знала вся армия вещим предзнанием, Наполеоновским гением, что завтрашнее «солнце Аустерлица» взойдет, лучезарное. Так и сказано в бюллетене: «Le soleil se leva radieux. (Солнце взошло, лучезарное)». Но какому солнцу поклонялись на этой огненной всенощной, люди не знали. Если бы жили не в XIX веке, а во II–III, то знали бы: богу Митре, Непобедимому Солнцу – Sol Invictus.
Бедному «идеологу» Ницше надо было сойти с ума, чтобы это узнать: «Наполеон – последнее воплощенье бога солнца, Аполлона». И мудрый Гете это, кажется, знал, когда говорил: «Свет, озарявший его, не потухал ни на минуту; вот почему судьба его так лучезарна, так солнечна».
«Холодно тебе, мой друг?» – спросил Наполеон старого гренадера, шедшего рядом с ним на Березине, в двадцатиградусный мороз. «Нет, государь, когда я на вас смотрю, мне тепло», – ответил тот.
Так мог бы ответить древний египтянин своему фараону, богу солнца: «Воистину, из Солнца изшел ты, как дитя из чрева матери»[5].
Солнечный миф о страдающем богочеловеке – Озирисе, Таммузе, Дионисе, Адонисе, Аттисе, Митре – незапамятно древний миф всего человечества есть только покров на христианской мистерии.
Солнце восходит, лучезарное, а заходит в крови закланной жертвы; солнце Аустерлица заходит на Святой Елене. Святая Елена больше, чем вся остальная жизнь Наполеона: все его победы, славы, величье – только для нее; жизнь его нельзя понять, увидеть иначе, как сквозь нее.
Молится он или кощунствует, когда говорит на Святой Елене: «Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер на кресте!»? Как могли это сказать те же уста, что сказали: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей!» Или он сам не знает, что говорит? Пусть, это все-таки не пустые слова, а, может быть, самые полные, тяжкие, всё решающие в его судьбе.









