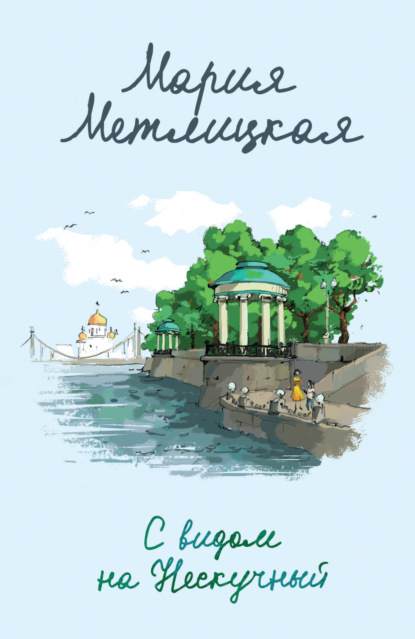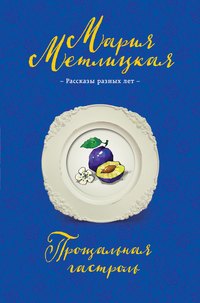Полная версия
Все, что мы когда-то любили
Ну конечно, это был Марек!
– Как ты? Я тебя не разбудил? – смущенно спросил он. – Знаешь, мне что-то тревожно. Умотал я тебя, эгоист. Мне-то что, ты знаешь, я хожу километрами. А у тебя нога… Прости меня, а? – жалобно бормотал он, повторяя: – Эгоист, да, признаю. Но ты тоже хороша – могла бы остановить меня, сказать, что тебе тяжело.
– Мне не было тяжело, мне было прекрасно. Да и потом, все врачи говорят, что надо ходить. Двигаться. А ты меня знаешь – я лучше с книжкой и на диване. Ленивая стала… Стыдно, а потом думаю: а что, не имею права? Когда, как не в старости, правда? Тем более что забот у меня не осталось, – вздохнула она. – Почти не осталось. Только сад. Но разве это забота? Это счастье и удовольствие. А вообще тут, в тишине, я философствую. И знаешь, что пришло в мою дырявую голову? В одиночестве много прелестей! Нет, правда! И оно меня совсем не тяготит. Ты не знаешь и поэтому не спорь! Во-первых, тишина. А ты знаешь, как люблю тишину. Во-вторых, все время – мое, не надо думать о домашних делах. Поверь, за всю женскую жизнь они ужасно надоедают! Как вспомню вечные мысли: что на обед и что на ужин, достать то или это. А глажка? А уборка? Ой, кошмар, честное слово! А сейчас я сама себе хозяйка, обедов и ужинов не готовлю – зачем? Бутерброд с колбасой, помидор с огурцом. Диван и книжка – вот оно, счастье! Я часто вспоминаю маму. Она никогда не сидела без дела, никогда. Даже вечером, после работы и ужина, вроде самое время просто плюхнуться на диван, посмотреть телевизор, полистать журнал! Так нет же – одним глазом в телевизор и подрубает простыню, или штопает чулки, или что-нибудь вяжет, или варит бульон, чтобы завтра его только заправить. Чем накормить, как сэкономить, как из старого платья сделать новую юбку – две девицы на выданье, нищета, вот мозг и кипит.
Однажды я посмотрела на нее спящую… Даже во сне была суровая складка на лбу, брови сведены, рот плотно сжат. Как будто продолжает считать, прикидывать. – Анна помолчала. – И только в гробу ее лицо разгладилось, представляешь? Только когда она умерла, когда ушли все хлопоты и заботы, вот тогда лицо ее стало гладким, спокойным, беспечным.
– А у моей матери? – глухо спросил он. – Наверняка даже в гробу было тревожное и беспокойное лицо. Представляешь, я ничего не помню, вообще ничего.
– Да, так и было, прости.
– Ладно, – бодрым голосом сказал он, – куда-то нас не туда понесло, да еще на ночь глядя! У нас с тобой завтра путешествие, ты не забыла? А это означает, что мы должны быть полны сил. Все, извини за звонок. Надеюсь, ты выспишься! А после завтрака двинемся в путь!
Пожелав ему спокойной ночи, Анна нажала отбой.
Да, надо уснуть. Иначе завтрашний день пойдет насмарку.
Только вот как – вопрос…
В воскресенье процедур не было, и отдыхающие беспечно валялись у бассейна, пили коктейли или отсыпались в номерах, ну а самые неугомонные отправлялись на шопинг – в пятидесяти километрах был большой аутлет.
В девять утра Анна и Марек встретились на завтраке, а потом уселись в машину и двинулись наугад, без всяких планов и задач, как говорится, куда глаза глядят.
– Наугад – это прекрасно! – улыбнулась Анна.
Они ехали вдоль чистых, аккуратных, нарядных палисадников в разноцветных и буйных кустах роз, гладиолусов и георгинов, вдоль поселков и деревушек, вдоль Карпатских гор, покрытых густым изумрудным лесом, мимо крошечных, на три столика, местных кафешек, маленьких магазинчиков, почтовых отделений, аптечных и больничных пунктов, зеленых лугов с пасущимися козами и коровами и узких, сверкающих в лучах солнца речушек. Эти пейзажи Анне были отлично знакомы – до ее родного Кракова было всего-то триста с небольшим километров. А Марек не переставал восхищаться и удивляться – европейскую природу он обожал.
– Нет, – торопливо оправдывался он, – нашу израильскую природу я тоже люблю, и у нас тоже горы, правда, сосны невысокие, разлапистые, другие. Зато какие платаны, Аннушка! А эвкалипты? А наши пустыни? Ты знаешь, пустыня – это красиво! А весной, когда цветут маки?
Анна кивала.
– А море? – продолжал он. – Что может быть красивее моря? Морской закат – чистое волшебство. Но пальмы, пальмы… Кругом одни пальмы! А я люблю липы и клены, елки люблю, березы, рябину, сирень. У нас этого нет. Зато есть бугенвиллеи – всех цветов, ну ты знаешь, – словно оправдывался он, – и розовые кусты вдоль дорог. Правда, розы почему-то не пахнут, я всегда удивлялся. А наша мимоза, – оживлялся он, – величиной с хорошую вишню. Но странное дело – тоже не пахнет…
– Ты европейский человек, – смеялась Анна, – родился и вырос в Европе. Отсюда и любовь к европейским пейзажам, и, как следствие, твоя тоска.
Он кивнул:
– Да, ты права. И странное дело – у меня как будто раздвоение личности: кто я, откуда? Какой культуре принадлежу? Что мне ближе и что роднее? Я люблю свою страну, ты не подумай! Люблю и горжусь ею. Но часто ловлю себя на мысли, что все-таки я человек европейский. Израильтяне другие. Не хуже и не лучше, просто другие: шумные, крикливые, несдержанные, все эмоции налицо. Подчас дурно воспитанные. Но если что-то случается или тебе нужна помощь, если ты в опасности, если ты… – он на минуту задумался, – скажем, голоден или что-то еще, они тут же, незамедлительно окажутся рядом! Дадут питу, бутылку воды, окажут первую помощь, отвезут куда надо. И, самое странное, будут искренне за тебя переживать, и ты это сразу почувствуешь!
Да, безумный анклав разных культур и традиций, порой невозможно друг друга понять! Но если что-то случается… В тот же миг ты, они, все почувствуют, что это их страна и вы – один народ. Несмотря на то что один – эфиоп, другой – марокканец, а третий – выходец из Испании, а четвертый – ты будешь смеяться – узкоглазый и смуглый житель Непала!
Изумленная Анна качала головой:
– Вот уж правда! Такой страны больше нет!
– И кухня, – продолжал Марек. – Знаешь, я многое там полюбил: и хумус, и фалафель, и острые хацелим, баклажаны по-нашему. Но, – улыбнулся он, – как я скучаю по капусьняку, журеку, по перогам с сыром, по нашей любимой кремувке!
– Так научил бы Ширу! – воскликнула Анна. – Нехитрое дело!
– О чем ты! У нее совершенно другие пристрастия. Восточная кухня, все острое, перченое: кускус этот, куриные оладьи с корицей! С корицей, Аннушка! И хумус, хумус, только что в кофе не добавляют, а так он везде! К тому же местные дамы не очень-то озабочиваются готовкой! Так что пришлось привыкать.
– Это не самое главное, – сказала Анна. – Главное – она родила тебе прекрасных, красивых и здоровых детей! И все же, мне не просто любопытно, ты ощущаешь себя на родине? Ну, что твои предки здесь жили и так далее?
Он долго молчал, наконец проговорил:
– Это странное чувство. Тогда, когда я уехал, это был просто побег. Плюс интерес – мне хотелось поглубже узнать эту жизнь и эту страну. И долгое, о-о-очень долгое время я ощущал себя кем-то вроде туриста или командированного. И у меня было чувство, что я обязательно вернусь обратно. Да, непременно вернусь! А потом, – усмехнулся он, – знаешь, как говорится, врос корнями. Женился, купил дом, родились дети. И это уж точно их страна и их родина. Я выучил язык, и местные говорят, что у меня нет акцента. Я стал понимать эту страну, понимать ее сущность, глубину ее патриотизма, упрямую и непоколебимую веру в будущее. Я вижу мужчин-калек и понимаю, откуда такие травмы. Бесконечные войны. И мне стыдно, что меня не было там, рядом с ними…
Я плохо переношу жару, но почти к ней привык, меня раздражает леность и неторопливость левантийцев, их наплевательство и пофигизм, совершенно непонятный нам, европейцам. Мне часто кажется, что я не могу просчитать их, понять их мысли, мы очень разные. Разные, а жену нашел из сефардов, – усмехнулся он и замолчал. – Сколько раз я хотел вернуться, не сосчитать. Уговаривал Ширу, сулил ей куда лучшую жизнь. Сколько раз хотел просто сбежать. На все наплевать и сбежать! Но постепенно раздражение уходило – я твердил себе, что мы просто разные в силу всех обстоятельств. Окончательно, кстати, я понял это после женитьбы.
Но если ты все же решил жить в этой необычной стране, рожать там детей – а для них лучше места не найти, – с этим просто надо смириться, смириться и принять. Просто принять эту разность, эти крики и эту суету, этот пофигизм. Я объяснял себе, что эти люди не желают мне зла, просто у них все по-другому. И я это принял, как и многое другое – в смысле, все остальное. И эту жару, которую я всегда ненавидел, острое и перченое, и песни, и музыку. И природу – пальмы, песок и три моря на одну крошечную страну. И вечную тревогу, что на нас могут напасть. Привык к девчонкам и мальчишкам с автоматами наперевес. А уж когда в армию пошли мои дети, тогда я окончательно понял, что здесь моя родина.
Да, ко многому я так и не смог привыкнуть, но ко многому приспособился и восхищаюсь и горжусь этой страной. Господи, как они смогли? Как смогли приехать на эту выжженную, пустынную землю, в эту непонятную Палестину? Да, это были упрямые идеалисты, пионеры и социалисты, бежавшие от нищеты и погромов. Но были и другие, успешные и небедные. Они оставили свои дома, привычки, налаженную жизнь и приехали в эти полные гнуса болота? Как, расчищая пространство, могли ворочать глыбы камней, осушать болота, вручную вырубать пни? Сажать леса и поля и подводить к ним воду для орошения? Как можно было создать эти кибуцы, построить дома, развести скот и плодовые сады? И это при всех войнах и терактах, в окружении врагов? Они работали, рожали детей и верили, верили… Энтузиазм, идеология и вера – великое дело, Аннушка! И я понял – при всех ее недостатках это великая, необычная и необыкновенная страна.
Это мой дом. Сейчас уже да. И, знаешь, я, пожалуй, не пожалел, что я уехал. К тому же я обещал матери – она мечтала об этом, повторяя, что там, в своем государстве, с нами не случится того, что случилось здесь, в Польше, ну и во всей Европе.
Анна сжала его руку.
– Но все это не отменяет моей тоски по старушке Европе! – рассмеялся он. – И каждый год рвусь сюда как оглашенный: к Европе и к тебе, Аннушка.
Остановились у маленького кафе выпить кофе.
Тут выяснилось, что Марек проголодался. В меню оказались только что вспоминаемые пероги – большие вареники с сыром. Как же он наслаждался! Причмокивал и причавкивал, постанывал и похрюкивал, а Анна радовалась и смеялась – сбываются мечты!
Дальше был старый, почти разрушенный замок с какой-то мистической страшной историей, холодный домашний лимонад в кафе, маленький магазинчик с изумительными салфетками с вышивкой, и она уговорила его купить их в подарок жене.
А потом снова дорога и снова горы и деревушки, магазинчики и кафе, и они увидели указатель на конюшню.
Марек обожал лошадей. Лошадей и собак. Впрочем, как и она. И здесь они совпадали.
Свернули к конюшне. Удивились вылизанным, ухоженным красавцам – все как на картинке! Марек спросил у работника, можно ли прокатиться верхом. Ему вывели высокую пегую кобылу. Оглянувшись на Анну, словно спрашивая ее одобрения, он светился от счастья. Обеспокоенная, Анна неуверенно глядела на него, но он уже был в седле.
Конюх вывел кобылу на улицу.
– Осторожнее! – только и успела выкрикнуть Анна, и Марек скрылся за пригорком.
В изнеможении она села на скамью.
Господи! Он уже не мальчик, не дай бог упадет, не дай бог что-то сломает! «Матка боска, не дай ему упасть, умоляю тебя!» И Анна стала молиться. Вглядываясь в даль, она вытирала уставшие и разболевшиеся глаза – ей казалось, что его не было невозможно долго, целую вечность. «Надо было его остановить, – твердила она про себя. – Какая я дура! Наверняка он упал и что-то сломал! Да где же он? Так, надо действовать!» Она решительно встала и направилась к конюхам.
У входа в конюшню обернулась и увидела Марека, он подъезжал. Спешился ловко, ладно, как опытный ездок. А какая радость была написана на его лице, как молодо горели его глаза!
«Молчи, – приказала себе она и выдавила улыбку. – В конце концов, ты ему не жена. Кстати, а кто ты ему?»
Вернулись под вечер, уставшие, еле живые. Распрощались у ее номера – он всегда ее провожал.
– Ну как ты, жива? – спросил он, с тревогой заглядывая ей в глаза. – Очень устала?
– Очень, – кивнула она. – Но я счастлива, Марек. Спасибо тебе.
И это была чистая правда.
* * *Пани Тереза готовилась к рождению младенца – шила чепчики и распашонки, украшала постельное белье вышивкой, кружевами и ришелье. Потом принялась за вязание и раз в три дня появлялись новые шапочки, теплые пинетки и носки, рукавицы и шарфики, кофточки и рейтузы.
А у Амалии случился роман, и это тоже было событие и еще – страшная тайна. Любовник сестрицы, пан Ежи, был старше ее на пятнадцать лет и, конечно, женат. Коренастый, полноватый и кривоногий, он стоял на земле очень устойчиво. Всегда в костюме в полоску, светлой рубашке с накрахмаленным воротничком, который отчаянно резал его толстую шею, и в ярком галстуке с непременной золотой булавкой.
«Какой он пошлый! – подумала разочарованная Анна. – И этот четкий пробор, и блестящие, слишком аккуратные усики – фу, просто персонаж из какого-то комикса! Неужели в него можно влюбиться?»
– Зачем он тебе? – спрашивала она у Амалии. – Старый, некрасивый и вообще комичный.
– Не у всех молодые и красивые, – огрызалась сестрица. – Не всем так везет! Это ты у нас счастливица – оторвала молодого, красивого и богатого и сразу заимела собственный дом.
Не обращая внимания на колкости, Анна убеждала сестру, что она впустую теряет время, пан Ежи никогда не оставит семью, повторяла, что Амалия красавица и найдет себе приличного мужа. Но тщетно – сестрица и слушать ничего не хотела. Амалия все и всегда обожала делать назло.
А вскоре случилось вот что – прознав про интрижку, жена пана Ежи ворвалась в дом пани Малиновски и устроила грандиозный и непотребный скандал. Ее голос гремел на всю улицу. Испуганные соседи распахивали окна, вслушиваясь в ругань оскорбленной жены.
Амалия, гордо вскинув голову, стояла у окна. Она не проронила ни единого слова, но на ее лице была довольная и счастливая улыбка победительницы.
После визита крикливой мадам пани Малиновски слегла с высоким давлением – такого позора она не испытывала никогда. А кривоногий пан Ежи струсил и смылся на следующий же день, конечно же, избежав объяснений и извинений перед любовницей.
В тот вечер Анна узнала, что сестра беременна. Ахнув, она обрадовалась:
– Значит, будем вместе катать коляски! Как здорово, правда? Как здорово, что мама нашила и навязала так много, всем хватит, и моему, и твоему!
Амалия посмотрела на нее как на умалишенную:
– Ну ты и дура, Анна! – зло выдавила она.
Через неделю Анна узнала, что сестра сделала аборт.
Стоял теплый сентябрь, и через пару недель Анне предстояло родить.
В те дни Марек был особенно нежен и старался предугадать все ее желания и капризы. Впрочем, капризов у нее не было, а желания были минимальными, ничего особенного – например, однажды ей захотелось мятных леденцов, а в другой раз сладкую булку с соленым сыром.
В ночь на десятое октября у Анны начались схватки. Родила она только одиннадцатого, почти через сутки, намучившись так, что ей казалось, будто она умерла. Когда ребеночек вышел, измученная Анна провалилась в небытие – наверное, это был обморок. Открыв глаза, она не сразу поняла, что случилось. В родильной было тихо.
– Где мой ребенок? – закричала она. – Почему я его не слышу?
– Тихо, тихо. – Пожилая акушерка погладила ее по руке. – Сомлела ты, девочка. А ребеночек там, у врачей, – кивнула она на соседнюю комнату, – осматривают его.
– С ним все нормально? – Анна еле шевелила запекшимися губами. – Почему он не кричит?
Акушерка погладила ее по волосам:
– Отдыхать тебе надо. Такие роды – не приведи господи! – И не ответив на заданный вопрос, акушерка вздохнула: – Все будет хорошо, Аннушка! Ты еще так молода!
Анна покрылась холодным потом, ей показалось, что она проваливается в преисподнюю. «Ну и отлично!» – успела подумать она и снова потеряла сознание.
Очнулась в палате – яркий дневной свет бил в глаза. Белое постельное белье, белая сорочка, белая тумбочка, белые стены. Анну охватил ужас, и она крепко зажмурилась. Открывать глаза не хотелось.
В палате она находилась одна, вторая, соседняя, койка была пуста.
Приоткрылась дверь, заглянула нянечка.
– Проснулась, – обрадовалась она. – Есть хочешь?
– Нет, спасибо. Только пить, если можно.
Радостно закивав, нянечка бодро побежала по коридору. Через несколько минут Анна пила клюквенный морс. Кажется, такого наслаждения она никогда не испытывала. Напившись и поблагодарив, Анна попросила позвать врача. Опустив глаза, нянечка прикрыла за собой дверь.
Минут через десять в палату зашел врач. Это был молодой, симпатичный, сероглазый мужчина, раньше Анна его не видела. Представившись педиатром, он сел на стул возле Анниной кровати. По его опущенным глазам и немного дрожавшим рукам Анна почувствовала что-то неладное. Сердце остановилось.
– Что с моим ребенком? С ним все хорошо? – почти утвердительно сказала она. – Почему я его не кормлю, почему мне его не приносят?
Врач молчал.
– Почему? – закричала Анна. – Он умер?
– Он жив, – тихо ответил врач, – но…
Анне казалось, что она слышит биение своего сердца. Оно билось на всю палату. «Наверное, и доктор слышит», – промелькнуло у нее в голове.
– Что – «но»? – закричала Анна. – Что вы хотите этим сказать? Что вы тянете, что молчите? Если все так ужасно, наконец наберитесь мужества!
– Это вы, уважаемая пани, должны набраться мужества, – ответил врач. – Ваш мальчик… он родился больным. Серьезная патология развития и еще куча проблем. Извините.
– Почему? – прошептала Анна. – Почему так случилось? Это я виновата? Это из-за меня? Почему это случилось именно с нами? Почему у нас? Мы молодые, здоровые! И я ничем не болела! Совсем ничем, даже простудой! Нет, такого просто не может быть! Не может, вы слышите? – Анна кричала. – Или это ваша вина? А? Признавайтесь! Это вы виноваты, вы пропустили? Мой ребенок был здоров, я это точно знаю! Значит, это все-таки вы! Да, я уверена, это ваша ошибка! И что значит – серьезная патология развития и еще куча проблем? Что это значит? Может, вы его уронили, а сейчас вы все хотите свалить на меня? Мой ребенок был совершенно здоров, вы меня слышите? – Анна кричала до хрипоты.
Врач, в момент посеревший и постаревший, проговорил:
– Нет, пани. Мы тут ни при чем. Это сможет доказать любая комиссия. Это внутриутробная патология, генетика. Вы можете обвинять нас в чем угодно, но, поверьте…
– Кому поверить – вам? – истерически расхохоталась Анна. – Вы же убийцы! У меня был совершенно здоровый ребенок, – повторяла она, – я это чувствовала! Он переворачивался, менял положение, выпячивал ножки и ручки! Он был нормальным, вы меня слышите?
Резко встав, врач приоткрыл дверь. За дверью стояли две медицинских сестры и все та же нянечка.
– Успокоительное, – коротко бросил он, – истерика.
Одна из сестер бросилась за ампулой, через минуту обессиленной Анне сделали укол. Она почувствовала, как обмякает, теряет последние силы и, кажется, умирает. Ни руки, ни губы не шевелились. Она слышала чьи-то размытые, растянутые, как на заезженной пластинке, голоса.
– Бедная, – прошептал голос. – Такая молодая, и такое! И за что такая беда? И мать ее плачет, и муж. А муж какой славный – такой симпатичный, прямо красавчик!
– Не волнуйся, оставят, не заберут, – сказал второй голос. – Кто же такого заберет? Сначала при больнице будет, а как вырастет – в доме инвалидов. Если, конечно, доживет. Такие обычно быстро… того.
На следующий день все выяснилось.
– Мальчик болен, – сказал ей врач, – и болен серьезно, врожденная патология развития. Перспективы? Неважные. Точнее – ужасные. Ходить точно не будет, самостоятельно есть тоже. Скорее всего, твердую пищу глотать не сможет – отсутствует глотательный рефлекс. Мышечная атрофия. Наверняка разовьется гидроцефалия, при этих симптомах ее не избежать. Будет ли говорить? Вряд ли, такой букет болезней. Будет ли сохранен разум? Здесь вопрос. Полностью нет однозначно. Возможно, какие-то доли мозга работать будут, но пока непонятно. В общем, перспективы, увы, нерадостные.
Отвернувшись к стене, Анна молчала. Стена была серой, шершавой, холодной. Слушая врача, Анна не произнесла ни слова. Ей казалось, что все это происходит не с ней. Или она еще не проснулась после укола. Сон, страшный, кошмарный сон, вот что это было. С ней не могло такого произойти! Ни она, ни Марек этого не заслужили.
– Почему вы его мне не показываете? – не поворачиваясь, спросила она. – Он такое чудовище?
Врачи молчали. Лишь одна из них, лица ее Анна не видела, тихо сказала:
– Может быть, вам не надо привыкать к нему, пани Анна? Так будет проще. Мы… мы советуем вам оставить такого ребенка. Вы так молоды, вы здоровы, вы сможете родить нормального, да не одного – двух, трех! Зачем вам такие муки? Это поломанная жизнь – растить такого ребенка, вы нам поверьте! А в медицинском учреждении за ним будет хороший уход, персонал знает, как обращаться с такими детьми. Так будет лучше для всех, я вас уверяю! Да и потом… – Врач вздохнула. – Знаете ли, по опыту, мужчины не справляются с такой бедой. Они уходят. Точнее – сбегают, и мать остается одна. А одной это не сдюжить, поверьте. В общем, подумайте и примите решение. Да, это сложно. Почти невыносимо. Но мы хотим вам только добра! Такое бывает, причины неизвестны, генетика наука плохо изученная. В общем, пани Анна, мы ждем, когда вы будете готовы.
– Принесите мне моего мальчика, – прохрипела Анна. – Немедленно принесите! Это мое решение, и я его не поменяю. Да, и еще! – повернувшись, Анна привстала на локте. – Прошу вас, не пускайте ко мне родню! Я… я не готова с ними общаться…
Анна разглядывала своего сына. С виду – обычный ребенок. Хотя нет, не так, она обманывает себя. Она видела младенцев – красных, как помидоры, желтых от послеродовой желтушки, орущих, сверкающих блестящими беззубыми деснами. С открытыми глазами и закрытыми, сморщенных, спящих и бодрствующих. Пьющих из бутылочек и жадно сосущих материнскую грудь. Хватающих матерей за носы или соски. Блондинов, шатенов, лысых. Щекастых и нет. Все они были похожи, как близнецы, с первого взгляда не различить. Но матери их узнавали в ту же секунду. Каждая своего. Узнавали даже по крику.
Ее Мальчик был другим. Он не издавал никаких звуков, его ручки лежали вдоль запеленутого тела, как тряпочки, на темечке пульсировала крупная голубая жилка, глаза были полуоткрыты, а лицо похоже на застывшую маску. Он не морщился, не жмурился, не открывал, как птенец, рот. Он смирно лежал, как… предмет. Предмет, который принесли и положили. А потом перенесут в другое место. Кожа на его личике была вялой, старушечьей. Он был похож на старую поломанную куклу, которую хотелось поскорее отложить, спрятать в глубокий ящик комода. Нет, печали на его лице не было. Да и страданий тоже. На его лице вообще ничего не было – глаза, лицо ничего не выражали, словно он ничего не чувствовал. Не чувствовал жизни, ее дыхания, присутствия матери, ее теплой, пульсирующей, полной молока груди.
Анна не выпускала его из рук, прижимала к себе, пыталась засунуть в ротик набухший сосок, гладила его по головке, осторожно дотрагивалась губами до его лица и ручек – на его бледном личике не промелькнула ни одна эмоция. Спит он или бодрствует? Анна этого не понимала. Она вообще ничего не понимала. Кроме одного – она его никуда не отдаст. Никуда и никому. Никогда.
Она увидела Марека. Он то смотрел на ее окно, то, опустив голову, сидел на скамейке, то мерил шагами небольшой двор родильного дома. Ее сердце сжалось от тоски и боли, и, распахнув окно, она выкрикнула его имя. Вздрогнув, он посмотрел наверх и, увидев ее, отчаянно замахал. Вскоре он был в палате. Мальчик спал.
Марек бросился к Анне, крепко, до боли, сжал ее в своих объятиях, стал целовать лицо и руки, шептать какие-то слова, но их она не разбирала.
Вырвавшись из его крепких рук и отступив назад, Анна вскинула подбородок и указала на мальчика:
– Это мой сын, – гордо сказала она.
– Твой? – удивился он. – Мне кажется, и мой тоже!
И в ту минуту, закрыв лицо руками, она разрыдалась впервые за эти страшные дни.
Марек осторожно подошел к детской кроватке и стал разглядывать мальчика. Анна с тревогой и страхом следила за ним. Но на его лице были написаны восторг и нежность, не было ни брезгливости, ни испуга, ни жалости.
– Какой красивый, – наконец произнес он. – И, кажется, похож на меня. Как мы его назовем, Аннушка? Есть мысли на этот счет?
– Я называю его Мальчик. Мой Мальчик, – тихо ответила Анна. – А имя придумай ты, ладно?
– Я могу его… взять? – осторожно спросил он. – Подержать на руках? Ему не будет больно?