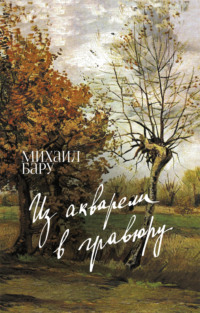Полная версия
Вопросы буквоедения
Вот если бы писателям давать деревни в кормление… Не так, конечно, как при крепостном праве, Боже упаси. Все-таки двадцать первый век на дворе. Никакого крепостного права, а чтобы деревня писателя кормила в самом прямом смысле этого слова – приносили бы крестьяне ему молоко, картошку, яблоки, яйца, творог, говядину и даже шерстяные носки двойной вязки, а писатель за это описывал бы их деревенскую жизнь. И вообще описывал, и в частности. Понятное дело, если описать всё как есть, то крестьяне писателю эти самые носки двойной вязки на голову натянут до колен. Описывать надо в лучшем виде.
Пришел, к примеру, ко мне сосед в рваном свитере и с огромным фонарем под глазом, с больной головой после вчерашнего и преогромной просьбой одолжить ему хотя бы сто рублей для того, чтобы отсрочить смерть, которая за ним придет через час или два. А я его опишу культурным, в брюках со стрелками, в фетровой шляпе с широкими полями и пахнущим французским одеколоном, а не машинным маслом и перегаром, от запаха которого не только мухи, но даже и воробьи дохнут. Это, скажут мне, и художник нарисует не хуже писателя. Нарисовать-то он нарисует, но не расскажет, что человек этот лишь по несчастной случайности оказался в глухой костромской деревне, где ухаживает за разбитым параличом трактором «Беларусь», а на самом деле он происходит из богатой купеческой нижегородской семьи, которая владела пятью пароходами, и каждая пятая или даже четвертая черная икринка, добываемая волжскими рыбаками, принадлежала прадедушке нашего тракториста. После семнадцатого года икра и пароходы… Мало того, несчастный сосед пару лет назад выпал из трактора вниз головой и ему отшибло память об икре и пароходах. Теперь он помнит только, как пропил переднее колесо, и на его лице даже самый проницательный художник не увидит ничего, кроме тракторных шестеренок и фонаря под глазом. Конечно, от такого соседа яиц, не говоря о говядине, не дождешься, но упитанного деревенского кролика, застреленного по ошибке как зайца, или кабачков, которые растут даже там, где их не сажали, он принести может.
И это только одна история о соседе-трактористе, а написание крестьянкам многосерийных родословных, а разлученные в детстве доярки, а продавщица из сельмага, которую похитили инопланетяне, от которых у нее родилась двойня и осталась татуировка в виде летающей тарелки с голубой каемочкой пониже спины… Такого количества продуктов хватит не только писателю, но и его жене, и теще, и даже взрослым детям, проживающим в городе.
Конечно, не всем крестьянам это может понравиться – в смысле жена, теща и взрослые дети. Начнут болтать, что у писателя жена вон какие бока наела на их горбу, но ты сначала побудь писательской женой, ты научись не дышать, когда ему пишется, не отсвечивать, когда не пишется, научись рюмку водки подавать к письменному столу в точности после удачной фразы, а не спустя три предложения, ты научись терять дар речи и падать в обморок от полноты чувств после прочтения только что написанного рассказа, ты… Я сейчас говорю даже не о женах писателей в ранге властителей дум, а о женах самых обычных писателей районного масштаба. Кстати, властителям дум можно и по две деревни давать, потому как при них будут кормиться… Ну кто-нибудь непременно будет. Особенно если деревни большие.
И вот еще что. Нельзя отпускать писателя в город на оброк. Дескать, жить он будет в городе, крестьяне сами к нему приедут, продуктов привезут, а он им в городском кабинете напишет и в деревню почтой отошлет… Ни в коем случае. Крестьян потом обратно в деревню не выгонишь.
* * *Приятнее всего не писать рассказ самому, а читать, к примеру, рассказ Брэдбери и мечтать о том, что ты и сам вот как возьмешь, вот как напишешь тоже что-нибудь такое светлое, немного печальное и таинственное, вот как завтра же утром! И с этим чудесным настроением потом пить зеленый чай с лимонным пирогом или смотреть в окно, или просто дремать, сидя в кресле, пока тебя не растолкают и не велят идти уже спать по-настоящему, под одеялом. Но и там, в душной пододеяльной темноте, еще немного помечта-а-а… а наутро проснуться и пойти на работу, радуясь в тайне от самого себя тому, что у тебя есть работа, а настоящему писателю пришлось бы натощак писать этот чертов рассказ. Как минимум страницы две или три до завтрака.
* * *Чистый лист бумаги. В левом верхнем углу, на коротеньком, еще не просохшем от чернил и состоящем всего из трех вихляющих букв корне стремительно набухает и тут же отвердевает суффикс с крошечной однобуквенной пипкой окончания.
* * *Вчера вечером переживал из-за того, что погряз в мелкотемье. В том смысле, что пишу я об огороде, квашеной капусте, вишневой наливке, борще, лыжах, валенках, абрикосовом варенье и синицах. Раньше-то я как думал: сейчас быстренько напишу о каких-нибудь петуньях или бархатцах, выкину эту ерунду из головы и сяду писать настоящее – мрачное, достоевское, душераздирающее и вечное, на разрыв аорты и других внутренних органов. Загляну в бездны психологизма, психоанализа и всего такого, о чем литературные критики потом будут рассуждать, цитируя Дерриду, Леви-Стросса и Леви Страусса. Может быть, даже и запью, потому что никем не понят так, как мне бы этого хотелось. Буду ходить в облаке табачного дыма, винных паров, худой, как тень, бледный и со взором горящим… Вышло все наоборот. Мало того что не запил – так еще и курить бросил, а уж как поправился…
И все это меня поначалу мучило ужасно. Все я пытался вставить между строчками о петуньях и квашеной капусте если и не топор, которым Родион Романович отправил на тот свет Алену Ивановну вместе с сестрой Лизаветой, то хотя бы грабли или остро наточенный секатор для обрезания веток (в позапрошлом году я обрезал им засохшие ветви яблонь). Все я тщился между первой и второй рюмкой домашней рябиновки втиснуть рассуждения о несовершенстве мира, о том, быть или не быть, вместо того, чтобы вставить туда кусок малосольной селедки с луком и соленый рыжик.
А тут еще и письма читателей… Настоящих-то писателей спрашивают о том, как жить и что там, впереди? Не ждёт ли нас теперь другая эра? Меня же спрашивали, какую водку лучше брать для настоек, какие сорта петуний сажает жена, рассказывали о том, как у них в Красноярске или в Вологде ударили заморозки и как погибла помидорная рассада, и делились рецептами сдобных ватрушек… Я стеснялся этих писем, как маленькие мальчики стесняются платка, который им заботливая мать повязывает под зимнюю шапку. Я представлял себе, как на ежегодном отчетном собрании писательской организации нас, членов Союза писателей, вызывают по одному на трибуну и мы перед ревизионной комиссией, которая сидит в первом ряду, зачитываем выдержки из читательских писем. Выходят один за другим инженеры человеческих душ и читают длинные, полные боли и невидимых миру слез письма, в которых благодарные читатели пишут, как после прочтения рассказа, повести, романа или даже одного стихотворения взглянули на жизнь совершенно другими глазами, как бросили пить, как вернулись в семью или подобрали бездомного котенка на улице.
Я стою в углу, в платке, повязанном под зимнюю шапку, с ужасом жду своей очереди и комкаю в потном кулаке куцые распечатки записок о том, как собирали ведрами опята или как по моему рецепту настояли рябину на водке, но она кончилась еще перед Новым годом, как… и тут меня жена будит и говорит, что на закате спать нельзя – голова будет болеть, и вместо того, чтобы спать, я мог бы принести дров и растопить печку, потому что на веранде прохладно и рассада может замерзнуть. «Иди, – говорит она, – а то не будет у нас никаких петуний. О чем тогда писать-то будешь?»
* * *За окном ночь, моросящий дождь и тень фонаря, колеблемая ветром из стороны в сторону. Я сижу на кухне, пью остывший чай, ем черные сухари с солью и читаю стихи Державина. Жена уже спит и видит во сне теплицу, в которой созрели на кустах преогромные помидоры. Часы в гостиной бьют полночь, и помидоры в ее сне начинают превращаться в тыквы. Жена стонет, мечется, умоляет помидоры этого не делать, но они, уже огрубевшие снаружи, ее не слышат…
Вдруг за стеной по мусоропроводу с грохотом пролетает пустая бутылка, брошенная соседом-алкоголиком, и тыквы, едва получившиеся из помидоров, начинают превращаться… но не успевают, потому что через минуту пролетает другая, а следом за ней третья. Хочется встать, вытряхнуть сухарные крошки из бороды, взгромоздиться на стул и до самого утра громовым голосом декламировать: «Я связь миров, повсюду сущих, я крайня степень вещества, я средоточие живущих, и на соседей вездесущих я…» Чтобы никто, кроме жены, не спал, чтобы сосед-алкоголик захлебнулся от ужаса своей паленой водкой, чтобы сверху плакали, молились и стучали зубами по батарее, чтобы полоумная старуха, бросающая с балкона пшено на крыши припаркованных у дома машин, вместе со своим пшеном…
Однако пора спать. Жена уже там измучилась с помидорами, которые превратились в пырей и окружают ее, загоняя в теплицу. Она их косит косой, но ей нельзя косой – у нее больное плечо. И ведь вцепилась в нее – не оторвать. Отдай косу и запрись в теплице! Я этому пырею сейчас!.. «И он подобно так падет, как с древ увядший лист падет! И он подобно так умрет, как…»
* * *Боюсь, что в недалеком, во всех смыслах этого прилагательного, будущем писатели расплодятся еще больше, а читателей станет совсем мало и услуги их станут не по карману многим, даже средним, писателям, не говоря о начинающих. Читатели-могикане объединятся в союзы, вроде тех, что мы сейчас видим у писателей, обзаведутся профсоюзами, пластиковыми членскими билетами с двуглавыми орлами и голограммами. На Западе их будут называть «союзами букридеров». Появится иерархия Читателей – районные, в столицах еще и окружные, областные и даже федерально-окружные. В деревнях и поселках городского типа все будет по-старому – ни книг, ни читателей, ни писателей. В городах же писатели будут выстраиваться в очереди к Читателям. К районным будут вставать с вечера, чтобы успеть к утреннему сеансу чтения, а к областным или федерально-окружным… Среди писателей расцветет взяткодательство. Будут вкладывать купюры в свои книги, как в права гаишникам. Всякая литературная критика к тому времени умрет за ненадобностью, и бывшие литературные критики будут работать на звукозаписывающих студиях начитывателями аудиокниг. Понятное дело, что Читатели от районного до федерально-окружного книги будут не читать, а слушать, и профессиональная болезнь у них будет не глазная, а ушная.
Самые пронырливые писатели будут всеми правдами и неправдами прорываться в Союз читателей. Купят себе рекомендации у двух недобросовестных районных читателей и айда в приемную комиссию. Комиссии, однако, будут очень строгие. В них будут сидеть сушеные, точно воблы, и древние, как Тортиллы, библиотекарши в кардиганах собственной вязки, в очках с пуленепробиваемыми стеклами, и строго спрашивать кандидатов из школьной программы про то, как звали лошадь Вронского или какого размера была грудь у нимфы, нарисованной на картине, висевшей на стене общей залы гостиницы, в которой поселился Чичиков. Впрочем, это будет лишь первый тур. Во втором туре… среди тайных писателей в читательской шкуре расцветет взяткодательство.
Не останутся в стороне от всего этого и власти. Учредят звания Заслуженный и Народный читатель России и два вида нагрудных знаков – серебряные и золотые очки. По уму-то надо будет не очки, а уши, но уши уже будут на почетных знаках совершенно другого ведомства. У президента и премьера будут свои личные Читатели. Глядя на них, личными Читателями обзаведутся и наши толстосумы. Хороший Читатель к тому времени будет стоить больших денег. Читателями можно будет обмениваться, но только с разрешения Союза читателей и с выплатой комиссионных ему же. Вся эта процедура будет напоминать нынешний трансфер футболистов.
Но самых больших денег будут стоить Учителя Чтения, притом что учителя писания и даже чистописания обойдутся вам в сущие копейки. Богатые люди станут выписывать Учителей Чтения из-за границы и в конце концов и сами станут писать на языке своего Учителя. На русском языке будут писать только бедные писатели и писатели-пенсионеры. Пенсионеры для чтения своих воспоминаний будут покупать себе Читателя вскладчину. Минкульт разработает федеральную программу помощи, и в собесах станут группам пенсионеров выдавать на время каких-нибудь дешевых и даже некондиционных Читателей с плохим слухом и зрением, а то и вовсе какие-нибудь электрические устройства для сканирования и распознавания текста. Разозленные пенсионеры будут приходить с жалобами в собесы, приносить с собой толстые папки с рукописями, перетянутые резинками, и сваливать их у дверей кабинетов. К ним никто даже и не выйдет поговорить и извиниться. Только вечером, когда собес закроется, придет уборщик-таджик, покидает все папки в мусорную тележку и увезет их сжигать на задний двор.
* * *На работе, за чаем, зашла речь о дачниках, о любителях копаться на грядках, о рассаде, о картошке, о сорняках и обо всем остальном, что с этим связано, вернее, к этому приковано. Я сказал, что не понимаю и не хочу понимать этих людей, которые с утра и до вечера, не разгибаясь, в поту, в курином навозе, в колорадских жуках… Что за удовольствие все выходные, как проклятый… В конце концов, я зарабатываю достаточно, чтобы пойти в магазин или на рынок и купить себе самой шоколадной картошки.
– Не скажи, начальник, – усмехнулся мой коллега. – Тут все не так просто с удовольствиями. Вот ты, к примеру, зарабатываешь достаточно, чтобы пойти в магазин и купить себе любую книгу.
– Любую, – с готовностью подтвердил я.
– Но зачем-то пишешь их сам, – сказал коллега. – Небось, каждые выходные пишешь. Не разгибаясь.
И я задумался… Что, если все читатели были бы вроде дачников. Не дай Бог, конечно, но вдруг. То есть не покупали бы готовые книжки, а писали бы сами. Захотел почитать поэму или рассказ – сел и написал. Еще и говорили бы всем знакомым, что от чтения написанных чужими, посторонними людьми книг только голова болит и давление повышается. Черт знает, из каких слов и даже букв они эти дешевые покупные романы с повестями составляют. Один человек прочел сборник рассказов – неделю в себя прийти не мог. Голова чуть на три половинки не раскололась. Думали, что придется переливание мозга делать. Еле отчитала его жена стихами собственного сочинения. И ведь купил он эту проклятую книжку в настоящем книжном магазине, а не на развале каком-нибудь уличном, не с рук у бабки-пенсионерки, которая торгует вязаными пинетками и советскими потертыми и замусоленными книжками. Хотя… советские книжки были, конечно, не чета нынешним. От них был и сон здоровее, и голова не болела. Потому, что был ГОСТ! Потому, что не было никаких искусственно-модифицированных словообразований. А теперь… Конечно, есть проверенные писатели из хороших знакомых, которые пишут для себя и немного для друзей. Чуть дороже, конечно, чем в магазине, зато все простое, не заумное – слова простые, предложения простые, знаков препинания почти нет. Читать можно с любого места. И почерк прекрасный.
Стихи не пишутся
…И снег за окном валит пушистый, ласковый, только что не мурлыкающий, и у вороны, сидящей на проводах, такой вид, будто она осталась одна в целом свете, и свет из фонаря льется такой мандариновый и апельсиновый, какой бывает только в новогоднюю ночь, и снежинки в этом свете танцуют и кружатся вихрем так, что у фонаря от их кружения темнеет в лампе, и тоска такая сладкая, что от нее тошнит, и стихи… не пишутся. Хоть тресни.
…И настроение мартовское, весеннее, и за окном небо такой густой голубизны, что из него можно выреза́ть каемки и наклеивать на блюдечки, тарелочки и даже большие блюда и подавать на этих тарелочках женщинам их женские мечты, красиво перевязанные солнечными лучами, и потом этими же лучами щекотать этих же женщин до обжигающих истомительных мурашек или, на худой конец, высвечивать пыль на письменном столе и компьютере, чашку с высохшими остатками кофе, почерневшую дольку лимона на блюдечке, початую бутылку коньяка, неприметно стоящую на подоконнике за шторой, и пепельницу, в которой лежит обгоревший клочок бумаги, напоминающий рукопись неудачного стихотворения, хотя никакая это не рукопись, а просто обгоревшая квитанция из химчистки, подожженная от тоски и злости потому, что файлы не горят, потому, что стихи… не пишутся. Хоть лопни.
Стихи не пишутся. Еще не рассвело, еще падает уставший идти мокрый снег, еще весна, схваченная за простуженное горло ночными заморозками, оступилась на заранее не подготовленные позиции, еще догорает в доме напротив окно и мельканье рук за его занавесками все медленнее и медленнее, еще надо мыть сковородку после ужина, еще кончились сигареты, еще и стихи не пишутся, еще хочется улететь на Марс в какой-нибудь маленький отель под названием вроде «У погибшего космонавта» на берегу давно высохшего Большого Сирта, где все включено – и ежедневные прогулки на лодке по черной воде заросших колючими кустами каналов, и обед с археологами в заброшенной рыбацкой деревушке, и дегустация плодов винного дерева, и охота с роем золотых пчел, и сидение розовыми сиреневыми синими вечерами на берегу моря под тонкое и жалобное пение медленно плывущих песчаных дюн, в мыслях о том, что стихи не пишутся. Хоть пополам разорвись. И лучше все же помыть сковородку после ужина сейчас, а не вставать рано утром, пока жена еще спит.
Нальешь себе чаю покрепче, сядешь за письменный стол поудобнее, подвинешь поближе ноутбук, помешаешь чай ложечкой, посмотришь в окно, пошевелишь пальцами на манер пианиста, который разминает их перед тем, как опустить на клавиши, посмотришь в окно, почешешь нос, отхлебнешь чаю, протрешь ваткой, смоченной в водке, клавиатуру, набьешь трубку, закуришь, выпустишь клуб душистого дыма, пообещаешь жене немедленно уйти курить на лестницу, погасишь трубку, помассируешь пальцами виски, потом сожмешь их ладонями, почешешь кота, забравшегося под стол, отхлебнешь чаю, вытащишь ложечку из чашки, положишь ее на блюдечко, поднимешь глаза к потолку, внимательно осмотришь каждый сантиметр ползущей по штукатурке трещины, опустишь глаза, скажешь уснувшей за книжкой жене: «Сама попробовала бы, а я посмотрел бы, как у тебя получится», – наступишь нечаянно на кота и подумаешь: да гори они синим огнем, эти стихи! Ну и пусть не пишутся. Пополам, что ли, разорваться из-за этого?! Потом напишу. Лучше рассказ напишу или даже повесть. В конце концов, пойду на кухню и сделаю бутерброд с колбасой и соленым огурцом. Или велю жене его сделать, а то ишь…
Сень струй
Старый, худой, с изрядно поредевшей шевелюрой, но не потерявший живости Иван Александрович Хлестаков. Любитель выпить. Бегает, как Добчинский – петушком, петушком. Живет со своей экономкой или свояченицей, сестрой покойной жены, женщиной строгой, с прямой кавалерийской осанкой и грубым голосом. Имение Хлестакова, доставшееся от отца, пришло в упадок и давно заложено в Опекунском совете. В заросшем саду у него стоит немного покосившаяся на сторону беседка, которую Иван Александрович называет «Сень струй». Струй там никаких нет, а есть худая бочка, наполненная двумя лягушатами и зацветшей дождевой водой, которая понемногу сочится в землю. В беседке Хлестаков сидит, когда тепло, и курит свою простую пенковую трубку, набитую дешевым и едким самосадом, который где-то покупает Осип.
Есть у Хлестакова записка от Пушкина, которую он сам же и написал. Это осьмушка бумаги, замасленная и истрепанная так, что совершенно невозможно разобрать, что на ней написано. Впрочем, Иван Александрович каждый раз ее читает по-новому. То Пушкин зовет его к цыганам, то присылает с запиской новую поэму, прося критик, то жалуется на то, что жена совершенно не понимает стихов и всегда зевает, когда он ей их читает.
Если старику поднести, то язык у него развяжется, и он станет рассказывать, как однажды чуть не женился на губернаторской дочке, которая влюбилась в него без памяти. Уже и договорились со священником, который должен был их тайно обвенчать в соседней деревне, но сделалась метель, кучер заблудился, плутал по степи, плутал, заехал не туда, и Иван Александрович по ошибке женился на свояченице или на экономке. Черт их разберет, этих своячениц или экономок.
Упоминает он и письмо, которое написал губернаторской дочке, но его не показывает никому, а прячет в маленькой шкатулке красного дерева со штучными выкладками из карельской березы. Наедине сам с собой, в кабинете, достанет его, читает, исправляет и дописывает. Допишет, зачеркнет и снова зачеркнет. Еще и клякс понаставит и размажет. Только и прочесть можно первую строчку – «Татьяна, милая, Татьяна! С тобой теперь я…» – и последнюю – «А нынче все мне темно, Таня». Повздыхает, достанет из потайного места штоф, выпьет, занюхает рукавом халата, посидит еще да и уснет за столом, не раздеваясь. Потом придет его экономка или свояченица, аккуратно вытащит из рук письмо, сложит его в шкатулку и уберет шкатулку в потайной ящик бюро, где Иван Александрович обычно ее прячет. Снимет со старика ковровые тапки с загнутыми носами, разденет и уложит на кровать. Посмотрит на него – щуплого, худого, смешно шлепающего губами во сне, сотрет рукой крошечную, незаметную невооруженным глазом слезинку и выйдет, тихонько притворив за собой дверь.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Надо сказать, что в советские времена были широко распространены подобного рода реликвии. На рынках бродячие беспартийные торговцы предлагали недорого то шкатулки с пеплом второго тома «Капитала», то окурки гаванских сигар Карла Маркса со следами его зубов, то пустые бутылки из-под любимого сорта рейнского, которое в огромных количествах поглощал автор «Манифеста коммунистической партии». А вот проймы жилета Ильича и его кепки, особенно меховые, стоили гораздо дороже. Тем не менее нет оснований сомневаться в том, что в библиотеке М. А. Суслова был аутентичный пепел второго тома.
2
Диалект древнеарамейского, на котором разговаривали между собой военные древних арамейцев.
3
Словесное описание миниатюры можно было найти в добром десятке работ, посвященных истории средневековых компартий Европы. Ее сюжет представляется исследователям как альковная сцена с раздевающимся Карлом и поторапливающей его Партией. Что же в действительности на ней изображено – не знает никто. Вполне может быть, что Карл уже разделся или наоборот – Партия его не только не поторапливает, но отвернулась к стене и спит. Еще и храпит во сне.
4
Николай Остен-Бакен командовал гвардейской имени Полтавской баталии мортирой 1-й Гренадерской артиллерийской бригады. Отличился в шведской кампании во время осады Гельсингфорса. По представлению командующего, графа Ласси, был награжден орденом Св. Владимира 2-й степени с мечами и бантом. В подавлении пугачевского бунта принимал участие уже в звании подполковника артиллерии. В семье потомков Остен-Бакена хранилась бархатная портянка Пугачева, которую бунтовщик обронил, когда его везли в клетке к месту казни на Болотной площади. Ростислав Остен-Бакен, капитан лейб-гвардии, увез ее с собой в эмиграцию. Теперь она в собрании музея Гуггенхайма.
5
Измельчало все. Нет, конечно, наши жены и сейчас «ружья заряжены» но… раньше были пушки. Под их защитой наш брат мог такое отлить…
6
Первый съезд красных водолазов проходил в Ленинграде.
7
Ботаники подсчитали – всего у подьячего было сто сорок восемь годовых колец. У деревьев годовые кольца, как известно, заменяют извилины, а поскольку они круговые, то дубы или березы могут думать свои мысли бесконечно. Потому и живут деревья гораздо больше нас с вами. Короеды же и полосатые древесинники своими ходами нарушают естественный ход мысли деревьев, отчего последние начинают путать одни мысли с другими, сохнуть, покрываться лишайниками и гнить на корню.
8
Должность целовальника ныне совершенно не используется в нашем государственном устройстве, а напрасно. В годы засух, неурожаев, репрессий, глада и мора обыватель, подступавший к властям с криком «Доколе!», был обычно встречаем целовальником, который обнимал и целовал бунтаря, обещая, что все обойдется, наладится и устроится, если не завтра, то послезавтра и уж в крайнем случае на следующей неделе. В целовальники брали народ губастый, с длинными руками. Бабы и вообще любили ходить к целовальникам по поводу и без повода. Когда их стали (не баб, а целовальников) делать деревянными, поток жалобщиков к ним понемногу стал мелеть и совсем иссяк уже в царствование Михаила Федоровича* (*С одной стороны, участь старых, вышедших на пенсию целовальников была незавидной – губы, вечно вытянутые трубочкой, которые они порой не могли втянуть обратно, вечное пришлепывание… а с другой, отставной целовальник, как правило, был отличным свистуном. Те, у кого был хороший слух, шли к скоморохам и в ансамбли художественного свиста, а те, у кого со слухом было похуже, но со здоровьем получше, шли в разбойничьи шайки – стоять на стреме. Такой свист слышен был за версту, а то и за две. Ну а те, кто по причине отсутствия слуха не попадал ни в ансамбль, ни в шайку, – те организовывали подпольные школы для обучения технике поцелуев. Власти на такие школы смотрели косо – потому как срамоты и непотребства в них… При Алексее Михайловиче целовальнику, содержащему такую школу, запросто могли высечь губы розгами или вовсе их отрезать по жалобе соседей на слишком громкое чмоканье после захода солнца, а вот уже при его сыне, Петре Алексеевиче, такие, с позволения сказать, учебные заведения расплодились, как тараканы в курных избах. Искусству европейского поцелуя дворянам и их детям было приказано обучаться наравне с танцами, навигацией и тригонометрией. Тогда, в первой четверти восемнадцатого века, в моде был не французский, а голландский и немецкий поцелуи, пахнущие крепким кнастером, мадерой и с непременной щекоткой дам усами…).