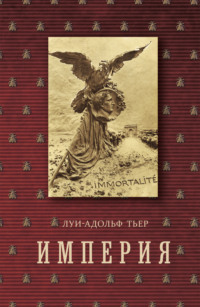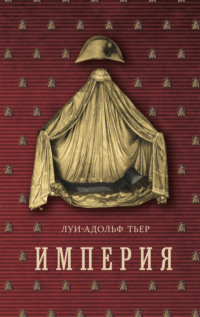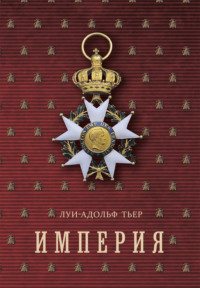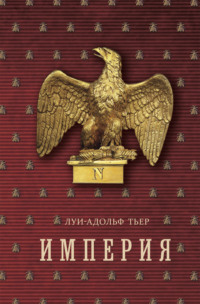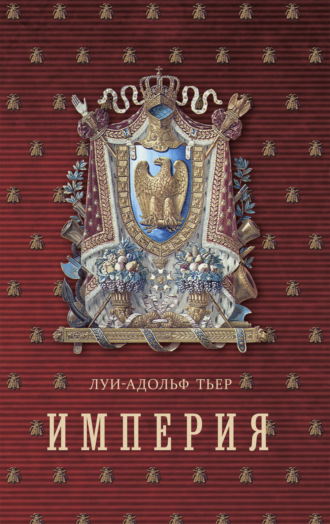
Полная версия
Империя. Том 1
По окончании переговоров 1803 года Австрия секвестрировала угодья секуляризованных княжеств, которые находились под ее управлением. Как мы помним, одни эти старинные церковные княжества владели средствами, положенными в Банк Вены, другие – землями, вклинившимися в различные германские государства. Эти средства и земли, естественно, полагались князьям в возмещение убытков. Австрия, ссылаясь неизвестно на какую максиму феодального права, секвестрировала более чем на тридцать миллионов капиталов, положенных в Банк Вены и размещенных в рентах. Наиболее ощутимые потери понесли Бавария и Оранский дом. Австрия этим не ограничилась. Она вела переговоры со множеством мелких князьков, желая отобрать у них владения в Швабии и так обеспечить себе положение на берегах Боденского озера. Она купила город Линдау принца Бретценхаймского и уступила ему взамен земли в Богемии, с обещанием голоса в Сейме. Она вела переговоры с домом Кенигсека, добиваясь от него, на сходных условиях, территорий, расположенных в той же местности. Наконец она добилась создания в Сейме новых католических голосов, чтобы уравнять голоса католиков и протестантов. Поскольку большинство Сейма ее не поддержало, она грозила прервать всякие обсуждения, пока вопрос соотношения голосов курфюрстов не будет решен сообразно ее желаниям.
Германские принцы, подвергшиеся насилию со стороны Австрии, мстили за себя, совершая подобное же насилие над землями более слабыми, чем их. Гессен и Вюртемберг захватывали земли имперского дворянства, заявляя в полный голос о планах их присоединения. Когда имперское дворянство Франконии обратилось в имперский суд Вецлара, прося декрета против узурпаций, которыми ему угрожали, гессенское правительство велело сорвать повсюду афиши с приговором имперского суда, подав таким образом пример самого примечательного презрения к судам империи. Отказывались также платить пенсии духовенству, лишенному имущества в результате секуляризации. Герцог Вюртембергский не захотел платить ни одной пенсии.
Среди этого взаимного произвола и насилия все молчали в надежде на безнаказанность для себя. На секвестры Австрии не жаловались, чтобы и она закрывала глаза на всё, что предпринималось против имперского дворянства и несчастных пенсионеров, лишаемых куска хлеба. Бавария, наиболее обиженная Австрией, отыгрывалась на архиканцлере, резиденцию которого перенесли из Майнца в Регенсбург. С сокрушением видя его в Регенсбурге, на который она давно притязала, Бавария преследовала его угрозами, отбирала у него анклавы и внушала ему всяческое беспокойство на предмет его существования. Пруссия подражала такому образу действия с Вестфалией и не отставала в узурпациях ни от Баварии, ни от Австрии.
Только два государя вели себя справедливо: архиканцлер, обязанный своим существованием договоренностям 1803 года и пытавшийся заставить членов Конфедерации их чтить; и курфюрст Саксонский, который безрезультатно ратовал, из благоразумия и честности, за уважение прав каждого, и пребывал в покое в своем прежнем княжестве, ничего не теряя и ничего не приобретая.
Преступные уступки Австрии, когда ей позволяли угнетать одних, чтобы она позволяла угнетать других, ничуть ее не обезоруживали, в особенности в отношении Баварии. Сочтя себя достаточно сильной, чтобы никого более не щадить, она начала оказывать содействие имперскому дворянству, естественной и заинтересованной защитницей какового являлась по причине рекрутирования его в свои армии.
Мы уже видели, что имперское дворянство, восходящее к императору, а не к территориальным князьям, в земли которых вклинивались его владения, не подлежало рекрутированию в их армии. Жители, склонные к военной службе, вербовались в австрийские войска и поставляли в год, в одной только Франконии, более двух тысяч рекрутов, ценимых более за качество, чем за численность. В самом деле, это были настоящие германцы, весьма превосходящие других солдат Австрии своей обученностью, отвагой и воинскими качествами. Они составляли всех младших офицеров имперских войск и образовывали каркас, который Австрия заполняла подданными всякого рода со всех своих обширных владений. И в этом пункте она также не желала уступать и была полна решимости пренебречь всем, кроме войны с Францией. Не заботясь об упреках в злоупотреблении властью, она потребовала признать захваты, совершенные против имперского дворянства, актом насилия, восходящим исключительно к императорской власти; и с быстротой, мало свойственной германской бюрократии, заставила вынести временное решение, поручив его исполнение четырем конфедеративным государствам: Саксонии, Бадену, Богемии и Регенсбургу. Она выступила с восемнадцатью батальонами из Богемии – с одной стороны, и из Тироля – с другой, и пригрозила Баварии немедленным вторжением, если та не отведет войска из захваченных ею сеньорий.
Понятно, что в такой ситуации Австрии надлежало хорошенько беречь Первого консула; ибо, хоть и поглощенный морской войной, он был человеком, не отступавшим ни перед чем. К тому же, если его раздражали, он делался еще более обидчивым и грозным, чем обыкновенно. Этим-то и объясняется сдержанность австрийских дипломатов в деле герцога Энгиенского и действительное или мнимое равнодушие, какое они выказывали в этих опасных обстоятельствах.
Прусский двор тоже перестал говорить о союзе. Замолчали и французы, но Первый консул сурово отчитал Лафоре за слишком откровенную передачу в его депешах общественного мнения в Берлине. Российскому же двору он дал мгновенный и жестокий ответ. Генералу Гедувилю было приказано покинуть Санкт-Петербург в сорок восемь часов, сославшись лишь на состояние здоровья, обычную причину для дипломатов, когда они хотят заставить гадать о том, чего не захотели сказать. Ему надлежало не говорить определенно, уезжает ли он на время или навсегда. На месте оставался лишь поверенный в делах Рейневаль, а в Париже, со времени высылки Моркова, – лишь один агент такого ранга, Убри. Затем Первый консул отправил мучительный для императора ответ на депешу Петербугского кабинета. В этом ответе он напоминал, что Франция, до настоящего времени действуя в отношении России наилучшим образом и привлекая ее ко всем большим делам на континенте, ничего не получила взамен; что всех русских агентов без исключения она находит недружелюбными и враждебными;
что вопреки последней договоренности обоих дворов не причинять друг другу неудобств, Петербургский кабинет аккредитует французских эмигрантов при иностранных державах и укрывает заговорщиков, под предлогом российского подданства избавляя их от французской полиции;
что это означает нарушение духа и буквы договоров;
что если Россия хочет войны, нужно лишь сказать об этом открыто; что Первый консул ее не желает, но и не боится. Касательно происшествия в Бадене Первый консул отметил, что Россия весьма необдуманно назначила себя гарантом германской территории, ибо обладает спорными для вмешательства полномочиями; а также что Франция воспользовалась правом законной самозащиты против заговора, плетущегося вблизи ее границы с ведома определенных германских правительств; что, сверх того, она уже объяснилась с ними и на ее месте Россия поступила бы так же: если бы ей сообщили, что убийцы Павла I собрались в двух шагах от ее границы, разве удержалась бы она от того, чтобы схватить их?
Это была жестокая ирония в отношении государя, которого упрекали в том, что он оставил безнаказанными убийц своего отца, и в связи с этим обвиняли, впрочем, несправедливо, в пособничестве ужасному покушению. Она показала императору Александру, сколь неосмотрительно он вмешался в дело герцога Энгиенского: смерть Павла I делала отпор его вмешательству легким и ужасным.
Что до Австрии, Первый консул мог лишь порадоваться безразличию, какое она выказала к Эттенхаймской жертве. Но он понимал также, что в Вене злоупотребляли препятствиями, которые, казалось, чинила ему морская война. У него было два способа разбить Англию, один – схватившись с ней вплотную в проливе Па-де-Кале, другой – уничтожив ее союзников на континенте. Наполеон желал хорошенько проучить Австрию, и, по существу, второй способ был легче и надежнее первого: менее прямой, он оказался бы не менее действенным. Коль скоро Австрия провоцировала его, он решил, не теряя ни минуты, покинуть Булонский лагерь и вступить в Германию. Он велел передать обоим Кобенцелям, как послу в Париже, так и венскому министру [Иоганну Филиппу Кобенцелю], что Бавария уже несколько веков остается союзницей Франции и поэтому он не оставит ее на произвол Австрии; что если она совершила ошибку, захватив слишком поспешно владения имперского дворянства, то это сама Австрия неправедными секвестрами вынуждает германских государей возмещать ущерб за перенесенное насилие путем насилия же; наконец, что если Австрия не отзовет свои батальоны из Богемии и Тироля, то он выдвинет сорокатысячный корпус в расположение Мюнхена в ожидании отвода императорских войск.
Все эти интриги, вызванные Венсенской катастрофой, едва не отвратили внимание Первого консула от внутренних дел, пришедших в это время к настоящему кризису.
Хотя впечатление, произведенное смертью герцога Энгиенского, смягчилось со временем, как всегда бывает даже с самыми яркими событиями, оставалась еще одна постоянная причина волнений: процесс Жоржа, Моро и Пишегрю. В самом деле, суд над такими людьми, как Ривьер и Полиньяк, дорогими старой французской аристократии, и Моро, дорогим всем, кто любил славу Франции, был досадной, но неизбежной необходимостью. Процесс должен был состояться и еще месяц-другой нарушать до сего времени спокойное правление Первого консула.
Совершенно непредвиденный несчастный случай добавил мрачных и зловещих красок. Пишегрю, узник Первого консула, не веря поначалу в его великодушие и едва веря в предложение о помиловании, переданное через Реаля, вскоре ободрился и предался мысли сохранить жизнь и восстановить честь, основав крупное заведение в Кайенне. Предложения Первого консула были искренними, ибо в своей решимости покарать лишь роялистов он хотел помиловать Моро и Пишегрю. Но Реаль недосмотрел за Пишегрю. Последний, не слыша более речей о предложениях Первого консула и узнав о кровавой казни в Венсене, решил, что теперь нечего рассчитывать на милосердие, которое ему предлагали и обещали. Смерть не страшила воина: она казалась почти вынужденной развязкой преступных интриг. И несчастный предпочел немедленную смерть позору, который стал бы следствием публичного процесса.
Он попросил у Реаля творения Сенеки и однажды ночью, после многочасового чтения оставив книгу открытой на словах о добровольной смерти, удавился с помощью шелкового галстука и деревянной шпильки, из которой сделал рычаг. К концу ночи стражники, услышав какое-то движение в его камере, вбежали и нашли его задушенным. Призванные врачи и судьи не оставили никаких сомнений в причине смерти и сделали ее совершенно очевидной для всех.
Но их свидетельство ничего не доказало тем, кто решил поверить в клевету или распространять ее, в нее не веря. Роялисты договорились до того, что Пишегрю задушили наемные убийцы Первого консула. Эта катастрофа в Тампле стала дополнением катастрофы, названной Венсенской; одна продолжала другую. Говорили, что, не надеясь уже убедить Пишегрю, его убили, чтобы его присутствие на процессе не привело к оправданию других обвиняемых.
Эта гнусная выдумка была столь же глупа, столь и отвратительна: присутствие Пишегрю на процессе ничуть не противоречило интересам Первого консула. Нелепое обвинение вскоре развеялось, но пока оно волновало умы, и разносчики лживых новостей, повторяя его, служили коварству его изобретателей. Однако впечатления эти были недолговечны. Если просвещенные люди, друзья Первого консула, радеющие о его славе, и сохраняли в глубине сердец безутешные сожаления, общество хорошо понимало, что может вздохнуть спокойно лишь под защитой сильной и справедливой руки. Никто не верил всерьез в возобновление казней, высылок и грабежей. Следует даже признать, что люди, лично участвовавшие в Революции либо приобретшие национальное имущество, общественные должности или обременительную известность, почувствовали тайное удовлетворение, когда генерал Бонапарта отделил от Бурбонов ров, наполненный королевской кровью.
Впрочем, впечатления от политических событий волновали тогда только небольшой круг лиц, с каждым днем сокращавшийся. Внимательно следили за текущими событиями лишь классы, достаточно просвещенные и праздные, чтобы интересоваться делами государства, и лично заинтересованные лица из всех партий.
Однако и среди этой публики впечатления разделялись. Одни объявляли гнусностью насилие, совершенное над герцогом Энгиенским, другие находили не менее гнусными непрестанно возобновляемые заговоры против Первого консула. И поскольку впечатление от смерти герцога уже начинало изглаживаться из памяти общества, стали больше возмущаться покушениями в среде незаинтересованных мирных жителей, которым хотелось вздохнуть, наконец, спокойно под защитой могучей руки, правящей Францией.
В этом столкновении мнений родилась мысль, вскоре распространившаяся с быстротой молнии. Роялисты, считавшие Первого консула единственной помехой их планам, хотели уничтожить его в надежде, что вместе с ним падет и правительство. Что ж, говорили другие, нужно обмануть их преступные чаяния. Человека, которого они хотят уничтожить, надо сделать королем или императором, чтобы передача власти по наследству обеспечила ему естественных и непосредственных преемников. И тогда, поскольку преступление против его личности станет бесполезным, будет меньше искушения таковое совершить. Мы видим, как всего за несколько лет свершился возврат к монархическим идеям. Пять членов Директории, назначаемые на пять лет, сменились тремя консулами, назначаемыми на десять лет, а на смену им пришел единственный консул, имеющий пожизненную власть. Остановиться на этом пути можно было, лишь сделав последний шаг, то есть вернувшись к идее наследственной власти. Для этого хватило бы малейшего толчка. И этот толчок совершили сами роялисты, пожелав убить Первого консула и тем явив зрелище весьма обыкновенное, ибо чаще всего именно враги правительства своими неосмотрительными нападками заставляют его развиваться вернее всего.
В один миг и в Сенате, и в Законодательном корпусе, и в Трибунате, и в Париже и главных городах департаментов, где собирались избирательные коллегии, и в рассыпанных по побережью лагерях спонтанно начали выступать за идею монархии и наследственной власти. Стихийное движение общественного мнения подогревалось выступлениями различных собраний, заигрывающих с настроениями в обществе; префектами, которые стремились выказать свое усердие; генералами, желавшими привлечь к себе взор всемогущего господина. Все прекрасно понимали, что, предлагая монархию, они угадывают тайную мысль своего господина и, конечно же, ничуть не оскорбят его, если случайно опередят время, назначенное его честолюбием.
Какое зрелище представляет собой нация, которая с такой поспешностью воззвала к сильной руке; устремилась навстречу генералу Бонапарту по его возвращении из Египта, умоляла его принять власть, которую ему и без того не терпелось захватить, сделала его консулом на десять лет, затем пожизненным консулом, и, наконец, наследственным монархом; лишь бы только крепкая рука воина защитила ее от анархии, пугающий призрак которой непрестанно преследовал ее! Какой урок фанатикам, которые желали, в бреду своей гордыни, сделать из Франции республику! И что понадобилось для такой перемены мыслей? Всего четыре года и неудавшийся заговор против необычного человека, объекта любви одних, ненависти других и страстного внимания всех!
Чтобы граждане древней Римской республики привыкли к идее монархической и наследственной власти, понадобилась настоятельная потребность в едином вожде, регулярно повторявшиеся неудобства передачи выборной власти, смена многих поколений, приход Цезаря, затем Августа и даже Тиберия. Французскому народу, приученному за двенадцать веков к монархии и только десять лет прожившему при республике, не понадобилось столько испытаний. Простого происшествия оказалось достаточно, чтобы очнуться от мечтаний благородных, но заблудших умов и вернуться к живым и нерушимым воспоминаниям всей нации.
При каждой перемене нужны люди, готовые взяться за претворение в жизнь идей, которые у всех на уме. До сей поры Фуше, по остатку искренности, порицал скорость реакции, возвращавшей Францию в прошлое; он даже снискал милость госпожи Бонапарт, которой показалось, что он разделяет ее смутные страхи; по этой же самой причине он впал в немилость у ее амбициозного мужа. Роль тайного порицателя стоила Фуше министерского портфеля, и он больше не хотел ее играть, а взял на себя роль совершенно противоположную. Спонтанным образом, вынужденно руководя полицией во время разоблачения последнего заговора, он воспрянул духом. Видя глубокое недовольство Первого консула роялистами, он угодил его гневу и подтолкнул к умерщвлению герцога Энгиенского. Если у кого и могла в то время родиться мысль заключить кровавый пакт с революционерами и добиться от них короны ценой ужасающего залога, мысль, которую часто приписывали Первому консулу, то только у Фуше. Он одобрял смерть герцога Энгиенского и был одним из самых пламенных сторонников наследственной власти. В монархическом рвении он превосходил Талейрана, Редерера и Фонтана.
Разумеется, не было нужды подталкивать Первого консула и к трону. Он и сам желал высочайшего сана;
не то чтобы он постоянно думал о нем со времени Итальянских кампаний или даже после 18 брюмера, как предполагали вульгарные писаки; нет, он не задумывал все желания одновременно. Его притязания, как и его положение, росли постепенно. Став командующим армией, он с высоты этого положения заметил еще более выдающееся – управление Республикой – и устремился к нему. Достигнув желаемого, он предощутил высоты пожизненного консульства, а достигнув последних, откуда ему ясно виделся трон, он захотел взойти и на него. Таково движение человеческого честолюбия, и в этом нет преступления. Однако проницательные умы понимали опасность беспрестанно возбуждаемого и удовлетворяемого честолюбия, ибо новое возбуждение требует и нового удовлетворения.
В пылу своего рвения Фуше сделался невольным исполнителем готовящихся изменений. Разгадав тайные желания Первого консула, он указал ему на насущную необходимость принять быстрое и смелое решение, покончить с волнениями Франции, возложив корону на свою голову и окончательно упрочив таким образом завоевания революции. Он показал ему, что все классы нации одушевлены единым чувством и страстно желают провозгласить его Императором Галлов, или Императором Французов, как будет угодно его политике или вкусу. От призывов Фуше почти перешел к упрекам и живо отругал генерала Бонапарта за неуверенность.
И в самом деле, все уже готовы были готов вторить пожеланиям Первого консула. Франция давно готовила себе властелина, который щедро осыпал бы ее славой и богатством, и она не хотела отказывать ему в титуле, более всего тешащим его честолюбие. Всех останавливало только одно затруднение – вновь пустить в обиход запретные слова и отвратиться от других слов, с энтузиазмом усвоенных. Небольшая предосторожность в выборе титула будущего монарха облегчала дело: трудность можно было обойти, назвав его императором, а не королем. И вызволить общество из затруднения никто не мог лучше, чем бывший якобинец Фуше, взявший на себя труд подать пример и господину, и подданным, и первым произнести слова, которые не осмеливались произнести другие.
Первый консул видел, что происходит, одобрял, но делал вид, что ни о чем не ведает. Сначала Фуше обговорил всё с первыми лицами Сената. Предоставить французским газетам инициативу побоялись: их полная зависимость от полиции сообщила бы их мнению явно заказной характер. Но благодаря тайным агентам в Англии в некоторых английских газетах появилось сообщение, что после последнего заговора генерал Бонапарт стал беспокоен, мрачен и грозен; что все в Париже живут в тревоге; что это естественное следствие формы правления, при котором всё держится на одном человеке, и что миролюбивые люди во Франции желают установления наследственной передачи власти в семье Бонапарт, дабы придать существующему порядку вещей недостающую ему стабильность. Так, английская пресса, обыкновенно используемая для очернения Первого консула, на сей раз послужила его честолюбию. Эти статьи, перепечатанные и прокомментированные, вызвали весьма живую реакцию и подали ожидаемый сигнал. В то время существовало несколько избирательных коллегий, созывавшихся в Йонне, Варе, Норе, Верхних Пиренеях и Руре. От них, как и от муниципальных советов больших городов – Лиона, Марселя, Бордо и Парижа, – было нетрудно добиться нужных воззваний.
В воскресенье 25 марта, через несколько дней после смерти герцога Энгиенского, Первому консулу представили несколько обращений избирательных коллегий. Адмирал Гантом, один из его преданных друзей, лично представил ему обращение коллегии Вара, председателем которой состоял. В обращении прямо говорилось, что недостаточно схватить, поразить и наказать заговорщиков, но необходимо путем учреждения обширной системы институтов закрепить власть в руках Первого консула и его семьи, обеспечив покой Франции и положив конец ее долгим треволнениям. На том же заседании зачитали и другие обращения, после чего случилось еще одно событие, более высокого порядка. Фонтан получил президентство в Законодательном корпусе и таким образом милостью семьи Бонапарт добился места, которого заслужил одними своими талантами. Ему поручили поздравить Первого консула с завершением бессмертного труда – Гражданского кодекса. Кодекс, плод стольких бессонных ночей, посвященных ученым занятиям, монумент сильной воле и всеобъемлющему уму главы республики, был завершен на текущей сессии, и признательный Законодательный корпус решил освятить память об этом событии, поместив в зале заседаний мраморный бюст Первого консула. Именно об этом и объявил Фонтан, произнеся такую речь:
«Гражданин Первый консул, огромная империя покоится уже четыре года под эгидой вашего могучего управления. Мудрое единообразие ваших законов еще более объединит ее население. Законодательный корпус хочет увековечить это памятное время: он принял решение установить ваш образ посреди зала заседаний, чтобы он вечно напоминал ему о ваших благодеяниях, долге и надеждах французского народа. Двойное право победителя и законодателя всегда заставляло умолкнуть иные голоса; всенародное голосование явилось тому подтверждением. Кто может еще питать преступную надежду противопоставить Францию Франции? Разделится ли она ради воспоминаний о прошлом, когда ныне она объединена интересами настоящего? У нее лишь один глава, и это вы; у нее лишь один враг, и это Англия.
Политические бури дали сбиться с пути даже мудрым. Но как только вы подали сигнал, все добрые французы последовали за ним; все пошли за вашей славой. Те, кто плетет заговоры на земле врага, безвозвратно отрекаются от земли родной; но что же они могут противопоставить вашему восхождению? У вас – непобедимые армии, у них – лишь пасквили и убийцы; и в то время как религиозные люди возвышают за вас голоса у подножия восстановленных вами алтарей, интриганы оскорбляют вас в безвестных бунтарских газетенках. Бессилие их заговоров доказано. Борьба с предназначениями судьбы будет делать их участь суровее с каждым днем. Пусть же они отступят перед неотвратимым движением, охватившим весь мир, и пусть поразмыслят в тишине о причинах падения и возвышения империй».
Это торжественное отречение от Бурбонов перед лицом нового монарха стало хоть и непрямым, но самым значительным из обращений. В то же время не хотели ничего обнародовать прежде, чем высший орган государства Сенат не совершит первый шаг.
Чтобы добиться этого, нужно было договориться с Камбасересом, руководившим Сенатом, и обеспечить его добрую волю; не то чтобы опасались какого-то сопротивления с его стороны, но даже его простое неодобрение, пусть и молчаливое, стало бы настоящим препятствием в обстоятельствах, когда важно было всеобщее воодушевление.
Первый консул приказал вызвать Лебрена и Камбасереса в Мальмезон. Лебрен, убедить которого было легче, пришел первым. С ним не пришлось прилагать усилий, ибо он был решительным сторонником монархии, а тем более под верховной властью генерала Бонапарта. Камбасерес, недовольный происходящими приготовлениями, прибыл, когда беседа с его коллегой Лебреном уже весьма продвинулась. Первый консул, поговорив о брожении умов, будто он не имел к нему отношения, поинтересовался мнением второго консула по столь волнующему всех вопросу восстановления монархии.
«Я так и знал, что речь об этом, – отвечал ему Камбасерес. – Вижу, что всё к тому идет, и сожалею». – И, плохо скрывая недовольство, примешанное к благоразумным доводам, Камбасерес изложил Первому консулу свое мнение. Он изобразил недовольство республиканцев, которые лишатся таким образом даже своей химеры;