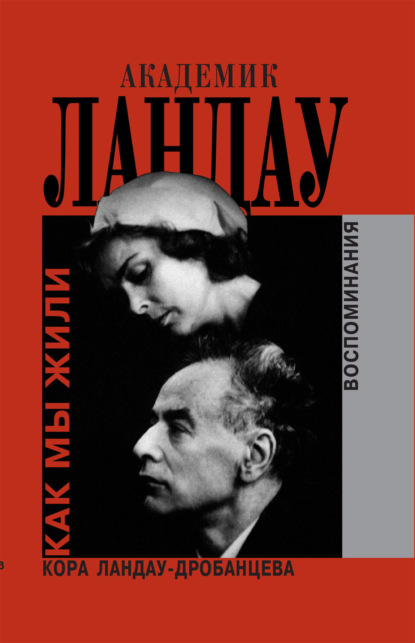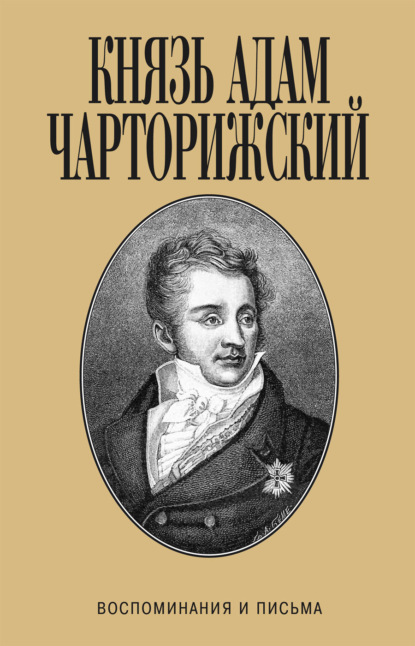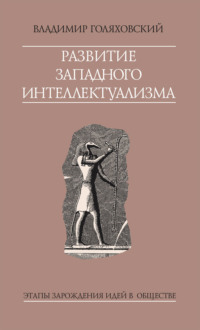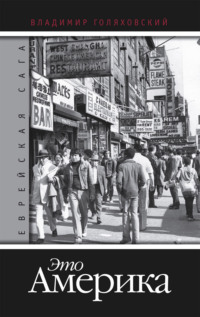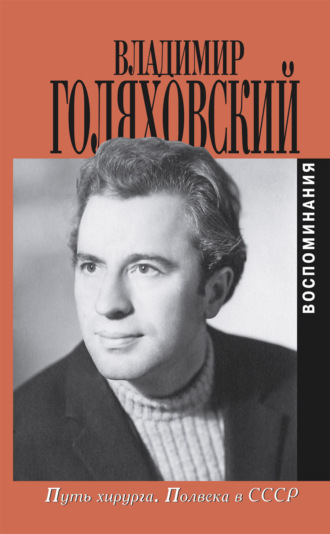
Полная версия
Путь хирурга. Полвека в СССР
Пока что нас, студентов, это не касалось. Но вдруг, неожиданно, все достижения медицины стали ставить в заслугу Павлову, крупному русскому физиологу, умершему в 1936 году. Из него сделали советского научного бога Саваофа (древнее языческое божество, которому до крещения поклонялись славяне). Сам Павлов был религиозный интеллигент и терпеть не мог советскую власть. Указания об усилении значения Павлова для советской медицины шли свыше – от Центрального Комитета партии и райкомов, а оттуда – в партийные комитеты институтов. Во всех этих инстанциях не было ни одного ученого: партийные неучи давали указания профессорам – что делать, как говорить, что преподавать. Теперь на лекциях и занятиях все стали, как попугаи, повторять: «павловское учение», «павловские идеи»… И нам, студентам, вменялось в обязанность на семинарах ссылаться на труды Павлова, которые мы никогда не читали.
Как ни мало мы знали и понимали, но не могли не удивляться – что произошло? К имени Павлова каждый день стали добавлять русских докторов прошлого – Сеченова, Боткина, Захарова, Филатова, их стали превозносить и цитировать. В учебниках все иностранные фамилии заменялись на русские, под разными «научными» объяснениями. Ходили бесконечные анекдоты. Остряки фамилию Эйнштейн (в переводе – «один камень») переделали на «товарищ Однокамушкин»; а рентгеновские лучи были открыты вовсе не немцем Рентгеном, а русским попом, который сказал своей попадье: «Я тебя наскрозь вижу».
Студенты-евреи стали, оглядываясь, собираться группами и рассказывать друг другу новости и анекдоты. Тогда все боялись доносчиков-«стукачей», и я инстинктивно сторонился тех групп – чувство предосторожности подсказывало мне, что лучше не быть замешанным ни в какие групповые интриги. Но моя подружка Роза была очень коммуникабельна, она все и всех знала и многое мне рассказывала, когда мы бывали вдвоем. А вдвоем мы бывали все чаще. Общественные настроения и интриги вихрем вились вокруг нас, но сами мы были в вихре любви – нас больше всего на свете занимала любовь, она была интересней всех кампаний и настроений. Наша любовь уже не была секретом для однокурсников, девушки из группы меня поддразнивали, Борис тоже посмеивался надо мной, а я за это на него дулся. После учебы (а иногда – вместо нее) мы с Розой шли целоваться на скамейках в парках или в кино.
Однажды, прижимаясь ко мне всем телом, Роза сказала с игривой улыбкой:
– Я хочу сказать тебе что-то: я ведь уже не девушка – у меня был любовник.
Это еще больше подогрело мои желания – я-то еще был девственником. Мы горели нетерпением предаться настоящим любовным утехам, но негде было – мешали квартирные условия. Мы мечтали: вот если бы родители куда-нибудь ушли…
Тем временем в кампании за приоритет выдвинулся новый «корифей науки» – биолог Бошьян. Большими тиражами напечатали его книгу. Он утверждал, что умеет управлять наследственностью и может изменять гены по своему желанию. Как он до этого додумался? Ведь тогда еще вообще не была открыта структура ДНК (дезокси-рибнуклеиновой кислоты) – генетической основы наследственности. Но если кто сомневался в «открытиях» Лысенко и Бошьяна, тем приклеивали кличку «вейсманистов-морганистов», а это было равносильно позорному клейму инквизиции.
И вот в этом и обвинили профессора Бляхера, одного из лучших наших лекторов, тоже еврея. Мы были обескуражены, когда однажды вместо него на кафедру поднялась какая-то моложавая женщина. Это была присланная из Курска преподавательница по фамилии Маховка – малограмотная, но зато русская и член партии. На свою первую лекцию она накинула на плечи двух чернобурых лис. Уже одним этим она вызвала в нас негативную реакцию и показалась нам претенциозной. А когда вместо лекции она открыла газету «Правда» и стала читать нам тексты статей о приоритете русских и советских ученых, мы окончательно убедились – кого мы потеряли и что приобрели. На клочке бумаги я написал эпиграмму:
Ах, как жалко и неловко:Вместо Бляхера – Маховка;На плечах у той МаховкиДве лисицы, две плутовки,Но ума у той МаховкиСтолько, сколько у морковки.Я показал эпиграмму Розе, она засмеялась чуть не в голос и послала эпиграмму по рядам студентов. Видно было, как вся аудитория колыхалась, читая. Но подпись я не поставил.
По слухам, еще оставалась слабая надежда: может, на защиту наших профессоров встанет гигант науки Гамалея – мировой авторитет. Но вместо этого в девяносто лет он вступил в партию большевиков. Газеты раздули этот факт как триумф советской идеологии. Секретарь Центрального Комитета партии Жданов сказал: «В наше время все пути ведут в коммунизм – почетный академик Гамалея пришел в партию на девяностом году своей жизни». Эту фразу стали повторять на всех собраниях.
Но, опять-таки по слухам, мы узнали – как он к этому «пришел». По состоянию здоровья Гамалея жил только на даче под Москвой и не бывал в институте. Партийный комитет в полном составе, во главе с секретарем райкома партии, выехал к нему на дачу. Академик дремал в колесном кресле и не очень реагировал на незнакомых ему людей. Тут же составили протокол заседания и единогласно «приняли» его в партию без обычного для этого кандидатского стажа в один год. Ни радости, ни возмущения со стороны Гамалеи не было – наверное, он просто ничего не понял.
Комитет хорошо сделал, что не дал Гамалее стажа кандидата, – через несколько дней весь институт хоронил «молодого коммуниста» на Новодевичьем кладбище. Был хороший осенний день, и все были рады, что вместо занятий нам велели идти на похороны. А мы с Розой радовались больше других и сбежали: днем моих родителей – наконец-то! – не было дома. Так великий ученый помог мне потерять девственность в жарких объятиях Розы.
Письмо Сталину
Хирургическая карьера моего отца шла вверх: он защитил диссертацию, его назначили заместителем директора Института хирургии и заместителем декана Института усовершенствования врачей. Занимать первые посты с его еврейской фамилией Зак и без партийного билета он не мог, но и это было большим достижением и признанием его заслуг. Моя русская фамилия Голяховский перешла мне от мамы, когда я пошел в школу. Сначала меня записали под отцовской фамилией. В первый же день учительница сказала:
– Дети, вы знаете, что такое национальность?
Ребята довольно уверенно закричали:
– Знаем!
– Я буду называть национальность, а вы поднимите руку, если она ваша.
Это выглядело как игра, и мы с радостью приготовились. Она сказала:
– Русские, – поднялось большинство рук.
Я знал, что моя мама русская, а отец – еврей, и размышлял – поднимать ли руку мне? Пока я раздумывал, учительница уже сказала:
– Украинцы, – опять поднялось несколько рук.
– Белорусы, – еще несколько.
– Евреи.
Я обрадовался, что и я могу поднять руку. Но как только я это сделал, весь класс обернулся в мою сторону, многие засмеялись и стали показывать на меня пальцами:
– Зак – еврей! Зак – еврей!
Я удивился и обиделся, но учительница сказала:
– Дети, не надо смеяться над Заком. Евреи – такая же национальность, как и все другие, – добавила она неуверенным тоном.
С того момента я понял, что еврейская национальность не совсем «такая», как другие.
Дома я рассказал родителям этот эпизод. Отец расстроился и взялся за голову, а моя решительная мама на следующий день отвела меня в другую школу и записала под своей фамилией, указав: «русский», – это было вполне законно, так делали во многих смешанных семьях. Для советских полукровок это было лучше – для их будущего.
Мой отец представлял собой типичный пример ассимилированного беспартийного советского еврея: очень хороший врач, он сумел добиться многого, но все равно для него существовал поставленный властью барьер карьерного ограничения. Теперь он был на высоте карьеры, и главное, чего нам не хватало, – это квартиры. Теснота, в которой жила наша семья, утомляла нас все больше. При установленной средней норме 9 квадратных метров на человека нам не хватало почти 10 метров. Да еще и эта крохотная кухня, общая с соседями, и одна уборная – это были кошмарные условия.
Комната наша была забита вещами и книгами отца, а теперь уже и моими – я начал собирать библиотеку. Нам почти негде было повернуться. У меня никогда не было своей кровати – на ночь для меня составляли три чемодана и клали на них матрас. А когда у нас жила старенькая бабушка Прасковья Васильевна, мать моей мамы, то для нее ставили еще деревянную раскладушку. И родители, и я мечтали о своих спальнях. Я становился взрослей, ко мне приходили друзья и девушки, мама всех радушно угощала, но нам, молодым, хотелось быть в своей компании. Особенно сложно стало, когда я хотел оставаться вдвоем с Розой – наслаждаться любовью. А хотелось мне этого все чаще.
Некоторые из родительских знакомых получили квартиры, и вот отец тоже стал хлопотать перед начальством, чтобы ему дали хоть маленькую, но отдельную квартиру. Он писал письма в разные инстанции, доказывая, что он известный хирург, что ему надо писать научные работы и готовиться к лекциям, что с его научной степенью он имеет право на дополнительную площадь (научным работникам полагались дополнительные 20 квадратных метров, но почти ни у кого их не было).
После долгого ожидания и многих отказов отец как-то раз сказал, что хочет написать письмо на имя Сталина и попросить его помощи. Говорили, будто бывали такие примеры и реакция на письмо Сталину бывала положительной – люди добивались своего. Отец обдумывал эту идею несколько недель, она нравилась ему все больше, нам с мамой тоже, да и не было другого выхода. Но в то же время мы взвешивали возможные последствия такого высокого обращения. По слухам, положительных результатов было меньше 10 процентов. А отрицательные результаты могли быть весьма неприятны: начальники поменьше не любили, когда через их головы обращались выше. Особенно – так высоко!
Мы понимали, что сам он вряд ли даже узнает про письмо, не то что прочтет. Письмо будут читать какие-то мелкие чиновники его секретариата. Но вдруг!.. И вообще сама по себе идея общаться с самим великим Сталиным казалась почти кощунственной. Хоть советская система не признавала религии, но Сталина она вознесла так высоко, как возносили только богов. А с Богом, как известно, могли беседовать только библейские пророки Авраам и Моисей, беспокоя Его своими мирскими делами. Я во всяком случае не решился бы написать Сталину, что мне нужно оставаться с Розой наедине.
После долгих обсуждений в один воскресный день мы наконец тихо сели втроем за наш единственный стол. Мы не хотели привлекать внимание соседей к такому «святому» делу. Отец разложил специально приготовленную плотную бумагу, которую где-то для этого достал. Пишущей машинки у нас не было (это была большая и дорогая редкость), поэтому отец собирался писать чернилами. У него был хороший почерк, но для такого случая надо было особо четко выводить каждую букву. Тщательно выводя, он написал:
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Я обращаюсь к Вам с личной просьбой…» Отец был напряжен – момент слишком серьезный. Но мы с мамой слегка над ним посмеивались.
После первой фразы он остановился и задумчиво спросил:
– Может быть, лучше не писать «дорогой»? Это звучит чересчур фамильярно.
Мы втроем стали продумывать другие варианты. Мама предложила:
– Напиши – «Дорогой и великий Иосиф Виссарионович».
Я возразил:
– Нет, это звучит как-то странно – «дорогой и великий». Не годится.
– А как же? – растерянно спрашивал отец. – Может, написать, как ему официально пишут письма коллективы колхозников в газетах, – «Великому Учителю и другу всех народов», а? Эта формулировка принята и очень популярна.
– Нет, для письма с личной просьбой это не годится.
– Да, вот задача – как лучше обратиться?.. – вздыхал отец. Ему, который решительно делал тысячи сложных хирургических операций, теперь было невозможно решиться.
Мама предложила:
– Напиши так: «Товарищу Сталину, Председателю Совета Министров».
Отец возразил:
– Нет, это звучит как-то холодно. Да к тому же он не только Председатель Совета Министров, но еще Генеральный секретарь Коммунистической партии, и генералиссимус, и верховный главнокомандующий, и еще многое другое…
– Если ты станешь писать все его титулы, на бумаге не останется места для письма, – рассмеялся я. – Да и не все ли равно? Сам он читать не будет, а его секретари знают все его должности и звания.
Отец рассердился:
– Не вижу ничего смешного в том, что я перечислил его должности.
Он нервничал, мама заметила это и примирительно сказала:
– Знаешь что, не надо спешить с этим обращением. Наша просьба ясна, ты ее излагал уже много раз в других письмах. Об обращении мы подумаем, каждый отдельно, про себя, и через несколько дней что-нибудь придумаем.
Отцу идея не писать письмо, хотя бы сейчас, очень понравилась, он повеселел. Я, по молодой горячности, был недоволен отсрочкой:
– Чего ты испугался, какая разница – какое обращение? Теперь мы станем каждый сочинять это обращение и сообщать друг другу, как в чеховском рассказе все предлагали свой вариант «лошадиной фамилии».
Мама под столом наступила мне на ногу, чтобы я замолчал. Отец с горечью посмотрел на меня:
– Ты не понимаешь…
Так письмо никогда и не написали. И хорошо сделали, потому что события для отца стали разворачиваться опасные. Женщины-делопроизводители из нашего домоуправления были его пациентками, они его очень уважали, и каждая из них отдельно шепотом сообщила ему, что приходил работник службы внутренних дел и расспрашивал их о нем: кто бывает у нас дома, сколько человек приходят, откуда мы получаем письма, как часто мои родители уходят и как поздно они возвращаются.
Мне родители это не рассказали, но я видел, что у них вдруг испортилось настроение.
И о письме Сталину больше не вспоминали.
Научная «культурная революция»
На занятиях у нас прибавлялись все новые предметы, мы начали изучать гистологию – науку о строении тканей. Теперь надо было много смотреть в микроскоп и зарисовывать что видим. Я с детства хорошо рисовал, и мне занятия нравились, я заинтересовался гистологией. Еще из школьной биологии мы знали, что все живые ткани состоят из клеток и все клетки происходят от клеток – делением. В институте, в начале первого курса, нам преподавали, что основателем клеточной патологии был немецкий ученый XIX века Рудольф Вирхов. Он в 1858 году, намного опередив свое время, написал книгу, в которой дал самый глубокий подход к разгадкам процессов, происходящих в клетках организма при болезнях. Этим он создал новый раздел медицинской науки – клеточную патологию и разработал базовую теорию для понимания и лечения многих болезней. До него веками господствовала «гуморальная теория баланса жидкостей», зарожденная еще Гиппократом две с половиной тысячи лет назад.
И вдруг на втором курсе все было повернуто назад: клетки не имеют большого значения, а учение Вирхова вообще ложное и псевдонаучное. Фактически, когда мы смотрели в поле микроскопа на клетки и рисовали их, мы должны были говорить, что это ничего не значит, что их попросту нет. Медицина в наших мозгах переворачивалась кверху ногами. Что? Как? Почему? Какие объяснения? – хоть что-нибудь бы понять.
Началось все с того, что профессор Лепешинская, старая большевичка, «открыла тайну борьбы со старением организма». Тайна была в том, что каждый день надо садиться в содовую ванну. У нас в квартире ванны не было, как и у 90 процентов жителей страны, так что нам – увы! – предстояло стареть. Ходили слухи, что это открытие очень понравилось стареющему Сталину, мечтающему пожить подольше. И опять по указанию партийных комитетов все профессора и студенты должны были ссылаться на «научные работы» Лепешинской. Их так популяризировали в газетах и по радио, что из магазинов исчезла питьевая сода – раскупили для омоложения.
Сегодняшним ученым-медикам и биологам будет интересно узнать, как делались такие «открытия» и чем они обосновывались. В основе «открытия» Лепешинской лежали опыты над… эритроцитами лягушки. Ей пришла идея поместить эти эритроциты в содовый раствор. По ее наблюдениям, от пребывания в нем оболочки эритроцитов становились «менее плотными». Как она это определяла, она не описывала. Вторая идея была в том, что она постулировала «научное» определение старения, – оказывается, старость это не что иное, как уплотнение оболочек клеток. А само это уплотнение – следствие «агрегации белковых единиц» (каких «единиц»?) в процессе взаимодействия электрических разноименных зарядов. По ее выражению, они «теряют электрозарядку». Никаких измерений «элетро-зарядки клеток» не приводилось. Но, по ее представлениям, от этого происходит «выделение воды», тоже ничем не доказанное. Поэтому сидение в содовой ванне раз в день по полчаса может предотвратить этот – увы! – неизбежный процесс старения.
Обо всем этом в солидном научном журнале «Клиническая медицина» была напечатана статья Лепешинской «О принципе лечения содовыми ваннами». Уже не говоря о том, что научно абсолютно неграмотно переносить наблюдения над эритроцитами лягушки на человеческий организм, в «открытии» не было ни идеи, ни доказательств. Тем не менее во всех больницах и институтах устраивались собрания, на которых врачам и студентам вменялось в обязанность штудировать эту статью и восхвалять «великое открытие советского ученого». И мы, как попугаи, не понимая ни смысла, ни метода, должны были повторять этот бред как молитву.
Ободренная успехом, Лепешинская пошла дальше: она «открыла живую субстанцию» без клеточного строения. Это она «подсмотрела» в строении яичного белка, который на самом деле является лишь питательной средой для желтка. Своей потрясающей невежественностью это «открытие» отбрасывало медицинскую науку на тысячелетия – ко времени Гиппократа и теории гуморальных факторов баланса жидкостей.
Даже людям с малыми медицинскими познаниями это «открытие» казалось странным. И мы, начинающие студенты, чувствовали его фальшь – молодые знают мало, но все остро чувствуют. Какие доказательства? Марксистская философия всегда была материалистической, основанной на фактах, – но это «открытие» было чистым идеализмом. В политике великорусского шовинизма и национализма властям так хотелось выдвигать вперед хоть что-то русское, советское, что они пренебрегли основой своего учения.
Была собрана сессия Академии медицинских наук, и вокруг нового «открытия» зазвучала волна патриотических выступлений. Профессора наперебой восхваляли «новое достижение советской науки» и критиковали Вирхова и вирховианцев. Среди них были такие, которые сделали на этом карьеру: наш профессор гистологии Хрущев (однофамилец будущего советского лидера Никиты Хрущева) приготовил специальные препараты для доказательства той теории – за это его «избрали» в Академию. Но тех, кто осмеливался спорить и возражать, разбирали на партийных собраниях и снимали с работы. Даже Давыдовского, совесть науки, заставили выступить с похвалой нового «открытия». Умный и желчный человек, он сказал: «Мы должны быть благодарны Ольге Борисовне (Лепешинской) за то, что она освободила патологию от тесного прусского мундира, надетого на нее Вирховым». В этой фразе крылся интеллектуальный сарказм. Давыдовский был продолжателем работ Вирхова, в своих трудах много ссылался на него, поэтому партийные власти предписали ему особо «очистить себя». Но так как вся медицина была построена на учении Вирхова, то фраза «освободила от тесного прусского мундира» точно и красочно определяла, что Лепешинская «раздела» науку.
А она продолжала «делать открытия» и обнаружила, что на открытую ею же «живую субстанцию» губительно действуют лучи, исходящие от… экранов телевизоров.
Телевидение в Москве только начиналось, по стране его еще не было, так что многие о нем ничего не знали. Да и сама она вряд ли была с ним хорошо знакома. Но ее «открытие» могло отпугнуть покупателей, поэтому на этот раз власти не стали его углублять и поддерживать – еще одна сессия Академии не состоялась.
Мы, студенты, задавали себе вопрос: ну хорошо, пусть выступавших заставляли так говорить, но ведь это крупные ученые авторитеты: что, если бы они отказались? Ответ на это поступил скоро – начались массовые гонения, увольнения и даже аресты профессоров-евреев.
Первой в нашем институте арестовали Лину Штерн – великую женщину-ученого, которой за ее открытия полагалась Нобелевская премия. По слухам, она была арестована как член Еврейского антифашистского комитета, председателем которого был артист Михоэлс. Ее арестом очень ясно раскрывалась тайна его гибели. Правда, ее не задавили машиной, как его. Просто она однажды пропала, и все. Никто ничего официально не писал и не говорил, но все догадались. По углам, где собирались группками евреи, шуршали слухи. (Все-таки власти «пожалели» Штерн и всего лишь (!) сослали ее в дальний район северного Ханты-
Мансийского округа, а потом в Казахстан; все остальные члены Еврейского комитета были расстреляны в августе 1952 года.)
Арест Штерн бросал тень на наш институт. Ясно было, что на нас обращено внимание высоких властей, и все ждали и боялись, что за этим последует что-то еще. И последовало – гонения на другого популярного профессора, Анатолия Геселевича.
Однажды на собрании коммунистов института секретарь парткома доцент Добрынина стала читать по бумаге обвинения в адрес Геселевича в космополитизме и преклонении перед Западом. В бумаге был весь тогдашний «джентльменский набор»: что в своих статьях, лекциях и в учебнике он цитировал работы западных ученых больше, чем русских и советских; что он недостаточно преподавал студентам приоритет русской науки; что он не воспитывал в них патриотизм. Особенно акцентировалось, что он мало цитировал русского хирурга начала XIX века Пирогова.
Сама Добрынина была биохимиком, не имела никакого отношения к предмету преподавания Геселевича и наверняка не читала его статьи и учебник, переизданный много раз. Она не могла знать, что он был лучшим знатоком работ Пирогова. Ясно, что бумага, по которой она зачитывала обвинения, написана кем-то, кто партийным рангом был выше нее. Собрание постановило, чтобы работу Геселевича проверила специальная комиссия. Слух об этом разнесся по всему институту. Люди разделились на два лагеря: коммунисты и русские говорили громко и с интересом, нарочито одобряли критику; евреи говорили приглушенно, напуганно и с возмущением. Я видел Геселевича в те дни в коридорах института – он совершенно изменился внешне: вместо прямой фигуры у него были опущенные плечи, согнутая спина и нетвердая, вялая поступь, вместо живости глаз – грустно-напряженное выражение лица; он был в состоянии настоящей депрессии.
На следующем собрании слушали заключение специальной комиссии. Мне рассказали об этом два аспиранта Геселевича – будущие профессора Лопухин и Мовшович. На собрание приехала сама первый секретарь райкома партии Екатерина Фурцева (потом ставшая членом Политбюро и министром культуры). Комиссия сначала цитировала работы Сталина, а потом перешла к Геселевичу. Его обвиняли в идеологических ошибках, в низкопоклонстве перед западной наукой, в отсутствии патриотизма, в том, что он недостаточно читает газету «Правда» и что у него много методических ошибок преподавания – например, у него не было составленного текста лекций (мы любили его лекции и знали, что он читал их не по бумажкам, как другие, а был блестящим лектором-импровизатором, настоящим оратором; но именно в этом его и обвиняли). Геселевич попросил дать ему слово для самокритики – тогда все должны были признавать свои ошибки. После дебатов ему разрешили говорить пять минут. Он благодарил комиссию за глубокую и принципиальную критику, сказал, что выше всего ставит интересы партии, обещал исправиться с учетом всех замечаний и закончил тем, что он всегда глубоко изучал и будет руководствоваться работами великого товарища Сталина.
Его выступление вызвало смешанный гул аудитории, аспиранты даже зааплодировали с облегчением – им не хотелось терять такого руководителя. Но тут выступил студент нашего курса Борис Еленин – высокий представительный мужчина, ветеран войны, но единственный из них, кто всегда был хорошо одет и производил впечатление сытого благополучия. На войне Еленин был капитаном СМЕРШ, что расшифровывалось как «Смерть шпионам», – отдела внутренней слежки в армии, который должен был доносить на подозреваемых в измене (по навету такого отдела на фронте был арестован Солженицын).
Не называя Геселевича по имени, Еленин сказал:
– Нам, советским студентам, не нужны профессора, которые сами преклоняются перед Западом и хотят привить это преклонение нам. Партия и лично сам великий гений человечества товарищ Сталин учат нас, что идеологические вопросы воспитания будущих советских специалистов – это основа работы высшей школы. Мы должны очищать наш коллектив от безродных космополитов – и мы это сделаем. Мы завоевали это право своей кровью на фронте, товарищи! (Еленин военных ранений не имел.)