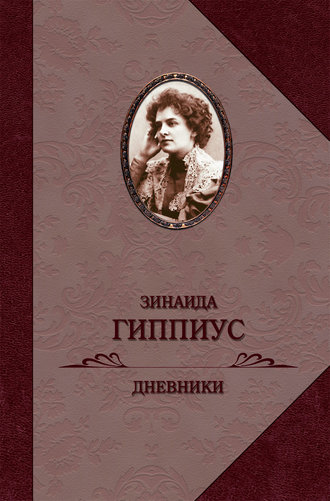
Полная версия
Дневники
Ужасно я трагична в этих последних страницах. Самолюбование, психология, надрыв и – все еще ребячество. Нет, я стала спокойнее, свободно-покорнее и тверже. Еще прошлой осенью – какой надрыв – мой «подвиг»! Конечно, ошибка, но не каюсь, и она была нужна.
Смысл существования этой тетради требует, чтобы рассказать – моя честность. Но так не могу. Пока это будет лишь бесцельное самоучительство. Да и трудно. Без мыслей, без моих страшных, говорить о «подвиге» нельзя, а им здесь не место…
Моя нежность, мое чувство ответственности, мое желанье силы в другом – остались; но веры нет, а потому разлад души и некоторое недоумелое стояние. Что же, мыслям изменить? Отказаться от последних желаний тела и души во имя того, что есть и что не нравится? Этой жертвы просит моя человеческая жалость к себе, моя нежность, моя слабость. Но смею ли?
Я даже не знаю, все ли я сделала, что могла. Если не все, то – доколе, о Господи? Ведь могу перейти границу своих сил и сама упасть в яму. Опять Таормина, Рим, Флоренция. И как все различно! Иногда я так была слаба, так хотела не того, что есть, что заставляла себя не думать, не видеть. Мне стыдно было видеть, стыдно за свою неумирающую нежность – без веры…
Жестокость – не крепость, а полуслабость. Жестокой легче быть, чем твердой и мудрой. Неужели я с… кончу жесткостью – а не трудной и тихой мудростью – если решу?
19 декабря
…Но нельзя так писать, как я начала страницу. Ложь. Вовсе лучше не писать. Да и зачем пишу? Если для других – зачем? Все слова, «бывалые» слова. Да и чернила густые и мерзкие. А решить ничего нельзя. А действовать – нужно. А нельзя – не решив. Переломить душу надвое? Так больно. Еще помрешь раньше времени от излома. Я не смею теперь умирать. Боль так боль, черт с ней. Мне кажется от боли, что я ни так, ни сяк не могу, вот что и сделаю. А теперь – успокоимся, если вы желаете писать, сударыня. Без нельзя. Есть веревка, последняя, истинная – ну и держись за нее, и уж верьте, она вас не выдаст. И в себя верьте.
Поговорим отвлеченно, спокойно. Я ведь так отвлеченна. Я «вся воздушна без предела», я – «душа» (или морской сухарь?). Не то возвышенно, не то невкусно.
А все-таки не знаю, нужна ли плоть для сладострастия. Для страсти, т. е. для возвращения в жизнь – да (дети). А сладострастие – одно идет до конца…
Весь смысл моего поцелуя – то, что он не ступень к той форме любви… Намек на возможность. Это – мысль, или чувство, для которого еще нет слов. Не то! Не то! Но знаю: можно углубить пропасть. Я не могу – пусть! Но будет. Можно. До небес. До Бога. До Христа.
Мне стало страшно. Как говорю? Здесь, в этой «яме»… Да в том-то и дело, что все изменилось и теперь место, где я говорю о своем теле, о сладострастии, о поле, об огне влюбленности, – для меня, для моего сознания, уже не проклято, не яма.
Принцип тетради, кажется, изменен. Не отрицаю своей мерзости, своего ничтожества – но не в том их вижу. Идеал Мадонны – для меня не полный идеал. Да, но тогда еще труднее писать. Я теряюсь, как человек, из-под которого выдернули стул. Только в одном, единственном, углу моей комнаты – светло. И это – мое, и это последнее, но хочу, чтоб оттуда на всю комнату был свет. И будет.
Любить меня – нельзя.
Я ни к кому не прихожусь. Рассуждаю, а в сердце зверь и ест мое сердце. Не люблю никого, когда у меня боль. Не люблю – но всех жалею. Жалко и Философова, который в такой тесной теме, жалко бедных людей, которые приходят, надеясь, – и ничего не получают, ни от себя, ни от нас. Их, впрочем, меньше жалко – чем Философова. Они как-то больше ждать могут; а ему бы сейчас надо. Да вот нет. Не могу ему помочь, он меня не любит и опасается.
Именно опасение у него (а не страх), мелкое, примитивное, житейское. Я для него, в сущности, декадентская дама, подозрительная интриганка, а опасается он меня не более, чем сороконожки. Да, может, это все и есть во мне, но жаль, что он лишь на это во мне реагирует. Жаль для него. А может, я к нему несправедлива? Может, у меня раздражение? Не хочу раздражительности, не знаю ничего наверное. Только досадно, что надо жалеть. Там он пропадет, ну конечно. Для меня вся ясно. Надо сделать что могу. У меня были такие мысли – да что я о Философове? Ни мысли, ни эти планы не для тетради «амура». Впрочем, ведь принцип ее изменен. Я еще не привыкла. И пока – ничего не надо. И сегодня – такое слишком личное во мне страдание.
Переживем, решим – в безмолвии.
7 февраля 1901
Все еще не знаю, что могу, но, кажется, знаю, что должна бы. Хорошо ли, что пишу это? Не математика ли? Не рассудочность ли? Не сухость ли? Или (совсем в другую сторону) – фанатизм? Не стоит заниматься мною. Какова есть. Так вот как надо… бы…
Я сделана для выдерживания огненных жал, а не слепого, тупого, упорного душения. Но так надо. А потом, когда приготовлю почву, – совсем не буду писать. Но очень надо приготовить. Очень знать. Это все, когда решу. Но ведь вот, чувствую, надо решить скорее. Потому что я должна действовать, а это меня держит, силы во мне нет… Малодушно, изменно, не нравится мне закрывание глаз, самоослабление для Главного. Это вопрос – быть ли Главному, и вопрос мой, потому что – быть «ему» или не быть – в моих руках, это знаю.
Господи, как хочется смириться, отдаться течению волн, не желать, а только верить, что другие больше тебя желают, не идти, – а только чтоб тебя несли! Сказать себе: ну что я могу? Это самообольщение, гордыня! Пусть другие, они сильнее. А я слаба. Все равно ничего не будет, что бы я ни делала. При чем – я? Моя воля?
Да ведь это и правда. Люди меня не любят, не верят, боятся, – я не могу им помочь, а они – мне. Что же я напрасно ломаю себя – или ломаюсь? Ведь это смешно…
Вздор. Грех. Стыд. Ложь. Лучше молчать, чем так говорить.
Это я в яму захотела.
Страшно мне, как всем, яма соблазнительна. Так мягко лежать… В браке все-таки сильнейший духом ведет за собою слабейшего, а там, где брачное извращение, – дух обмирает у сильнейшего и над ним властвует слабый и пошлый. На это обмирание и безволие духа жутко смотреть, но нельзя не видеть. Тут какая-то тайна. Надо над этим подумать.
Я думаю, что никогда не решу чувством, да это и невозможно!
Но надо поступать так, как будто решила. Потому что ведь я шага не могу сделать, ни одного! В себя веры не будет – ну и силы не будет.
А теперь довольно. Опять безмолвие. Время бежит, все равно недолго.
Все равно что-нибудь будет.
Поговорим о другом. Об общем.
Все-таки мне кажется порою, что даже и помимо… я ничего не могу, никому из людей не могу помочь. Ни они мне. У них в корне другие желания. На примере пола будет яснее. То есть любви. Да и к тетради больше подходит. Принцип, вернее, – взгляд мой на нее, изменен, но узости ее не изменю, из рамок не выйду, да будет она специальна, как была.
Но «слов» в ней не убоюсь.
Так вот: люди хотят Бога для оправдания существующего, а я хочу Бога для искания еще несуществующего (вероятно). Людям совсем бы хорошо было с их страстью, в их формах, с их любовницами и любовниками; да только беспокойно – не грех ли? Они зовут Бога, чтобы он пришел к ним, где они, и сказал: «Нет, не грех; а коли и грех – прощу за то, что вспомнили Меня и позвали. Не беспокойтесь». А мне некуда звать Бога, я в путешествии. Нет подходящего мне дома, в котором хотела бы вечно жить; я сама хочу идти к Богу; там, впереди, ближе к Нему, есть, верю, лучшие дома – их хочу. И оправдания мне ни для чего не нужно. И это абсурд – оправдание. Оправдания настоящему хочешь, только когда намерен длить его, неизменно; значит – оправдания стоянию? Его не может быть. А оправдания прошлому – уже есть, если есть хотенье движения к изменности. Но это – как бы «прощение». Значит, оправдания вообще никакого нет, и слова этого нет. Гиппиус все толкует о «любви» к жизни. Детство. Не о чем толковать. Ну конечно, мы любим жизнь. Даже стыдно об этом, как стыдно говорить, убеждать, что свою мать любишь. Не русский Гиппиус, не стыдливый. Любим, любим, ведь это же исходная точка, – но ведь это именно исходная точка).
Как хорошо так писать, для себя, не заботясь о том, что слова совсем непонятны!
Дмитрий Сергеевич тоже как бы в путешествии, и хочет идти, но ведь он ничего в себе не знает, и не смотрит, а уж в «специальном»-то своем смысле – совсем ничего не знает! Даже я о нем ничего не знаю. То так верю – то иначе. То есть словам всем верю, а его существа иногда не угадываю. Закрыто оно – и для него. Но сила ли это? Не слабость ли – мои психологии? А уж Философов-то, наверно, хочет для «оправдания»! Вся его неудовлетворенность только из этой точки. Впрочем, всякий человек – тайна. Может и так быть: желание оправдания лежит сверху и закрывает другие желания. Если исполнить это верхнее желание, или как бы исполнить (чтоб самому человеку почудилось, что оно исполнилось), – то оно и растает, и откроются другие желания – ежели они есть. (Все-таки, думаю, не у всех они есть.) О Философове – то знаю, то не знаю, есть ли; но возможно, что есть. Поэтому я так хотела бы зажечь свечку около этого верхнего желания: пусть растет. Пусть ему будет «оправдание». А там посмотрим. Лицо Божье – все-таки Лицо Божье, даже если мы Его к себе зовем. Все-таки возможность спасения – для нас и для него. Да и люблю его.
Остальные мне дальше, непонятнее, неприятнее. Потому пойду прежде всего к Философову, если… да я все забыла! Если? Никуда не пойду и сама упаду, нет решения – нет ни свободы у меня, ни силы. Но хватит.
6 марта
Главное – не ныть. Не размазывать своих «страданий». Подумаешь! У всякого своя боль. Вот у меня кашель, например. И у других, наверно, кашель. Не хочу жаловаться на… кашель.
Здесь я все-таки перепускала и перепустила лишнего. В узкоспециальном, кажется, кое-что недоговариваю (или нет?) и расподробилась о мыслях о Боге. Беда в том (или не беда?), что все во мне, как и в мире, так связано и спутано, что поневоле переходишь несуществующие границы, и с… порвать – вовсе уж не так больно; не правда ли? Порвать с тем, кого люблю меньше, для Того, Кого люблю больше, – да ведь это только естественно! Коли нельзя соединить – никого из двух не стану обманывать, а выберу, и ведь по своему желанию! Ну так о чем же? Моя Нежность – скажите пожалуйста! Ей ли помешать мне действовать согласно Главному желанию? И силы даже тут никакой не требуется…
13 марта
Хотела бы я знать, что влечет меня к этой тетради – теперь? Ведь нет никакой conte d’amour, никакой определенной влюбленности… О чем же писать? А хочется, именно здесь. Значит – есть во мне какая-то влюбленность или что-нибудь похожее на это.
Похожее… да, и такое другое! Это хорошо, что похожее, и хорошо, что «другое».
Несмотря на совершенно бесстыдную, личную боль моей старочеловеческой части души (говорю это спокойно), – во мне есть много ясных сил, действенных, и много хорошей, старой влюбленности в «другое». Теперь много сил, но не хочу скрывать от себя, что есть для меня опасность. и почти неизбежная.
Мне отныне предстоит путь совершенного, как замкнутый круг, аскетизма. Я знаю соединенным прозрением моего тела и духа, что путь этот – неправда. Глубокое знание, что идешь неправедным путем, – несомненно, тихо, но верно, – обессилит меня. Не дойду до конца, не дам свою меру. Это уже теперь, когда думаю о будущем, давит меня. А теперь еще так много живой силы во мне. Я уйду в дух – непременно – и дух разлетится, как легкий пар. О, я не за себя страдаю! Мне себя не жаль. Мне жаль То, чему я плохо послужу.
Выбрала бы и другой путь – да нет другого. Даже и говорить не стоит, и так видно, что нет.
Иногда мне кажется, что есть, должны быть люди, похожие на меня, не удовлетворенные ни формами страсти, ни формами жизни, желающие идти, хотящие Бога не только в том, что есть, но в том, что будет. Так я думаю. А потом я смеюсь. Ну, есть. Да мне-то не легче. Ведь я его, такого человека, не встречу. А если встречу? Разве чтоб «в гроб сходя благословить». Ведь через несколько лет я буду старухой (обозленной прошлым, слабой старухой). И буду знать, что неверно жила. Да наконец, если теперь, сейчас встречу – разве поверю? И полюблю, так до конца буду молчать, от страха, что «не тот», и он, если похож на меня, – так же будет молчать. Впрочем, нет. Ведь это может быть, это чудо, только в Третьем, а что он мне скажет – я не знаю. Его голоса я еще не слышала. И что я рассуждаю, опасаюсь, жалуюсь? Будет так, как надо. Не моя воля. Не по моей воле течет во мне такая странная, такая живая кровь. Для чего-нибудь, кому-нибудь она нужна. И пусть же Он делает с нею, что хочет. И с силами, которые дал мне. Я только буду правдива.
Грех только один – самоумаление. Вижу, как гибнут от него те, кто могли бы не только себя спасти, но и других. И вянут, вянут бедные цветы… Как им сказать? Как им помочь? Ведь и я не сильна, пока одна.
1 апреля
ХРИСТОС – ВОСКРЕС?
3 апреля
Как хочется писать что-то – именно здесь, – и вот именно здесь – ничего не могу. Потому что все во мне перевернулось?..
11 апреля
Оттуда – все еще письма. Но ничего.
Что «это»? Радость или уныние? Падение или полет? Отчаяние или надежда? И что мне теперь делать? Только тише. Тише. Тверже. Покойнее.
Очень у меня много силы. А могу и вся даром сгореть, и разлечусь, как жженая бумага.
Моя – и не моя воля.
16 февраля 1904
Три года тетрадь эта лежала в запечатанном конверте. Сегодня я разорвала конверт, но тетради не перечитаю, нарочно, до тех пор, пока не сделаю того, для чего разорвала конверт, – не впишу нужного. Боюсь бессознательно «подхватить» тон, а, помнится, в конце он был неправильный. Во всяком случае я опять хочу быть точной, фактичной – и узкой, как последнее ни трудно. У меня нити жизни слишком связались и спутались… нет, именно связались, – и потому, желая быть узкой, я буду неясной… Ничего, надо примириться, тетради осталось немного. И я буду говорить о прошлом. Кратко – и узко.
Я думала, что «узких» фактов мне уже не придется пережить, и потому думала, что и тетрадь никогда не распечатаю, эту… Не «узкое» должно быть в этой. И я ошиблась. Мое дело – факты. А кроме новой узости – ведь оставались еще «концы», принадлежащие сюда… Я пойду в строго хронологическом порядке. Значит, весной – здесь ничего, кроме моей боли. И летом ничего. Я очень много пережила, о чем говорить не буду, но что мою боль для меня оправдывало.
Зима. В самом начале 1902 года в моей жизни (во всей) случилось нечто – внутреннее, хотя фактическое и извне пришедшее, – что меня в одно и то же время и опустило, и подтянуло, – но и выбросило куда-то к людям, в толпу (вот как трудно говорить, когда надо быть узкой!). А еще раньше этого я очутилась среди людей новой среды, к которым присматривалась все время с моей точки зрения (до чего далекой от «любвей»! И очень близкой к… любви; ну просто нет, я вижу, слов). Короче, реальнее, уже. К нам в дом стали приходить священники, лавриты, профессора Духовной академии, и между ними два, молодые, чаще других.
Из всех заметнее был Карташёв, умный, странноватый, говорливый на собраниях: сразу как будто из того лагеря перешедший в наш, в наши мысли. «Мысли»! Вот чего я не хочу здесь, а не обежишь, потому что если у меня было в это время что-нибудь в душе, – то лишь они одни. И не выдернешь из последующего. Но буду их часть показывать, прилегающую к «узости».
Д.С.[6] читал у нас в средней комнате свою статью о Гоголе[7], и когда говорил о мертвом, узком, остром лице Гоголя, – я вдруг увидела Карташёва. Совсем такое же, похожее, лицо. Он сидел низко, на пуфе. Какое странное, некрасивое лицо, – но даже не лицо – лик. Вскоре после того секретарь собраний сказал мне: «Я сегодня просил Карташёва заехать за вами (деньги нужно было собирать), но он отказался, говорит – еще ни с одной женщиной на улице никогда не был. Заеду я за вами». Смеется.
У меня мелькнула мысль: а ведь эти странные, некультурные и как будто жаждущие культуры люди – ведь они девственники! Они сохранили старое святое, не выбросили его на улицу, не променяли на несвятое – быть может, ожидая нового святого? Быть может, среди них есть… Ну и т. д. Вечером присмотрелась к нему и ближе коснулась – вообще – «мыслей». Что-то есть… Чего-то нет… Или не знаю? Осторожность…
Но тут наступил январь, и моя выброшенность во мне, жажда сейчас всех людей во всем. Другой профессор, Успенский, моложе и весь не то теленок, не то ребенок – и «кутейник» с виду; но они у меня оба почему-то неотделимо бывали, чем-то (новостью среды?) слитые, но я на Успенского почти не обращала внимания, так, «второй».
Карташёв бывал и отдельно, и я неудержимо говорила свое, торопясь дать ему что-то внешнее, ему недостающее (как мне казалось), чтобы он мог понимать мою, «декадентски»-отливающуюся, речь. Он – дикарь, скорее дать готовым весь наш путь – искусство, литературу, форму жизни, мелочи жизни… Скорее, чтобы отсутствие не мешало нам сговориться о важном, – в нем, я думала, он там же, перед тем же (в его существе), перед чем я. Был в нем налет истерики – чуть-чуть. Он говорил, что был убежденным аскетом, до небоненавистничества, а теперь у него многое меняется. Я ему скорее хотела передать то мое осязанье «красоты», которое часть меня и моего, и всего, но ведь это – не окружающее меня реально-безобразное, ведь не старые, пыльные ковры, не рыночная, бедная мебель без ножек, даже не стихи Бальмонта, которые я ему (им) читала, – но все-таки они и во всем, мгновеньями; в том, чтобы видеть собор утренней ночью, в одной из двух лилий на моем столе, в случайно купленной или подаренной Сологубом банке духов, в старом рисунке между бумагами, порою, может быть, в одной-единственной, на мгновенье упавшей, складке моего платья… Но, увы! А его (их) прельстили равно: и дырявые ковры – и стихи из красной книжки, и чайный ликер – и мои мысли, вся моя внешняя «дешевизна», которой так много, – и мое заветное, что я люблю в мире. Но это все было новое и казалось одинаково «прекрасным», без различия, уродство и красота. В одну кучу. И даже (теперь вижу) ковер закрывал цветок, и одни дырявые ковры и были, потому что они виднее. Меня они видели «прекрасной», но если бы я сама увидела свое отражение в их душах… Впрочем, это так понятно.
(Началась близость с того, что я у Розанова спросила Карташёва, писал ли он когда-нибудь стихи, и он на другой день прислал мне ужасающие стихи десятилетнего лавочника, которые я послала назад, обстоятельно разбранив. Вскоре он стал писать прилично, но со страшными срывами в безграмотность и уродство!) Я думала, конечно, что «а вдруг он в меня влюбится?». И отвечала себе, что это и хорошо для него, пожалуй, влюбленность откроет для него сразу все, до чего без нее годами не дойти ему. Это, в связи с его «девственностью» (он мне сказал о ней как-то у камина, после обеда), и с девственностью, теперь, по его словам, не аскетическою, а примиряющею плоть и красу мира, – это все заставило меня, конечно, «кокетничать» с ним, давало какую-то возбужденную радость и стремительность, жажду убедиться, что возможности мои и во мне. Что оно есть вообще. Это было главным образом, но так как душа сложнее, – то, конечно, и тени другого всего были, и тщеславия доля, самого примитивного, старинного, и всего… но это уж из добросовестности прибавляю. Еще меня трогала и влекла его нежная любовь ко Христу. Я не хотела знать (не сумела бы тогда увидеть), что это что-то – старая, неподвижная точка, осколок старой чаши, разбитой жизнью и «рацио», старая любовь к старому. Привычное. И привычное соединялось никак с непривычным, т. е. со мною, с моим.
Мы виделись и говорили. Когда бывали оба, – я говорила больше с Успенским, но не видя его, или полувидя, а для Карташёва. Я баловала их, я пыталась показать им настоящее красивое и заботливо создавала для них массу подлинных внешних мелочей, от густых деревьев ромашки в моей комнате до стихов Пушкина и Лермонтова (уже не Бальмонта), которые я им сама с любовью читала поздними вечерами. Я хотела и мечтала создать Карташеву такой новый мир, который был бы для его растущей души дождем, и она, не смятая, расцвела бы для… всего будущего, моего.
Не увлекаюсь ли я? Как разрисовала – себя! Э, все равно. К делу. Что он «влюблен» – это как-то сказалось, или узналось, само собою. В письмах, должно быть. О «взаимностях» не было речи. Вообще все было как-то иначе, нежели прежде, ни на что не похоже. И это была моя радость. И все я приписывала чистоте. И о любви думала – наконец! Вижу глазами. Вот чего не хватало другим! Вот где моя мысль об «огненной чистоте»! Значит, «есть на свете», значит, мое мечтанье не только мое, одной меня! Вперед, вперед в этом!
Письма у него были очень хорошие, со срывами – но лишь противу-эстетическими, внешне. Я это прощала ввиду его эстетической молодости.
Подхожу к очень важному факту, к очень высокой точке в этой двойной истории.
Весна кончалась. Я рвалась в Заклинье, на старинную, красивую дачу, которую, увидев, полюбила за ее грустную прелесть. (Дачи вообще так оскорбительны! Эта – нет.) И устала я «существовать». История, которую рассказываю, занимала едва ли одну пятую моей внутренней жизни тогда, несмотря на ее связанность со всем (для моего сознания).
Д.С. пригласил профессоров к нам на дачу. Они уезжали, перед каникулами, в Крым, но с радостью обещали приехать на три дня перед Крымом. И пятого июня приехали, а восьмого утром уехали.
До них в Заклинье жила с неделю. Какие бледные, весенние дни, какие яркие, душистые, волнующе грустные ночи! Я их проводила у окон моей круглой «светлицы», над самым озером. В камышах скрипит коростель, у старых мостков, где черные деревья, что-то шуршит, шевелится и точно вдруг засмеется тонко, тихо. Запахи земные и водяные отовсюду. И между ними всех ярче – сирень, целый лиловый лес вокруг дома, с трех сторон. Мне из окна видны сплошные цветы, лиловые и белые. В запахах, в тенях, в ночной воде. В моей печали, в моем волнении, в том, чего я хотела, – вот подлинное, вот не оскорбительное, вот откуда надо… Впрочем, довольно. Все так ясно.
Они приехали. Успенского я опять не заметила, да он и вел себя как отпущенный гимназист; бегал по лесу, резал палки и пел романсы и песни. А в Карташёве было что-то робкое, значительное и таинственное. Он был почти красив иногда, в белой войлочной шляпе, на широком крыльце, у кустов сирени. Или вечером – ночью, над водой, там, на старых мостках. И тонкий, немного надтреснутый тенор мне нравился, когда вдруг обвивал грубоватый, сильный и немузыкальный голос Успенского.
Все, что страдает,Ночь, ты успокой…Но не тогда, а вечер на восьмое (утром рано они уезжали) хорошо пели. Была бледная, ясная ночь. Мы сидели на крыльце в сад. Они на ступенях (и другой был тут), я наверху на кресле, перед ступенями, закрытая длинным белым вуалем (мы все носили, от комаров). Везде сирень, у всех сирень, в руках, на коленях, в волосах. Между озером и нами догорал костер. Над озером взошла розовая-розовая луна. Они пели «да исправится молитва моя». И так хорошо спели (т. е. так хорошо это было), что после «исправится» никто уже не хотел ничего. Хотелось тишины.
Наверху широкой внутренней лестницы, направо от моей двери – дверь в коридор, который мы называли «монастырским». Там было три «кельи», именно кельи, сводчатые, белые, с глубокими острыми окнами. В дальнюю я поместила Успенского, в ближнюю Карташёва. Вечерами я их туда провожала.
И в этот вечер пошла. Втроем мы прошли к Успенскому, там я с ним простилась. Потом зашла в келью Карташёва. Он сел на стул, я на широкий подоконник.
Занавеси не было, и в белой келье было чуть-чуть лишь сумерки.
– Как хорошо, – сказала я, обертываясь к белому, свежему небу. – Вы завтра уезжаете… Я думаю о том, что подарю вам на память.
– Мне не надо ничего, – проговорил он, не понимая. – Зачем дарить? Разве вы думаете, что я забуду…
Странно, что я так… робка во всех движениях. Точно внешние путы на мне всегда. Мне стоит величайших усилий воли то, что я считаю нужным, праведным и чего сама хочу. Это даже не робость. Это – какая-то тяжесть, узы тела, на теле; какое-то мировое, вековое, унаследованное отстранение себя от тела, оцепенелость тела, несвобода движений. Во всем, часто, с другими – внутри возникает непосредственное движение, естественное – и внутри же замирает, не проявившись. Это, я думаю, у многих. Это, я думаю, от векового проклятия всей «грешной плоти» во всем. Волны от столпничества.
Отвлеклась. Продолжаю.
– Ничего не надо? – сказала я, встав с подоконника. – Вы не знаете, что я хочу вам дать. И это хорошо, что хочу, и это надо.









