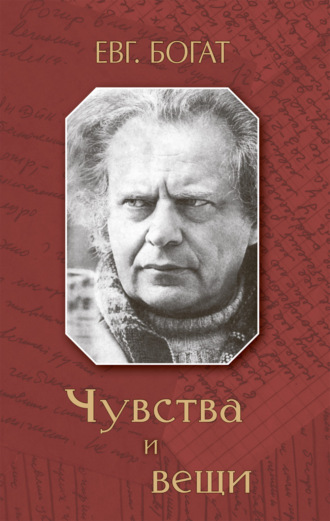
Полная версия
Чувства и вещи
Ответ был получен немедленно: высылайте! И Александр Семенович погрузил картины в контейнеры (заплатил по тридцать девять рублей за контейнер).
Сообщения о «патриотическом шаге» Жигалко появились в местной печати. А когда в Доме ученых открылась выставка части подаренных картин, местная газета поместила большой фоторепортаж с фотографиями, где мелькали в восторженном тексте имена Кипренского, Сурикова, Коровина… Заканчивался репортаж «Подарок любителям живописи» строкой о том, что «решено создать в научном городке постоянную картинную галерею».
Жигалко, разумеется, был на открытии выставки, да и сама экспозиция составлялась при его деятельном участии. И хотя это была только выставка, а не картинная галерея, ему казалось, что великий замысел исполнился. Он помолодел, носился с утра до вечера по залам, изучал освещение, перемещал картины, наблюдал радостно за посетителями, обдумывал оптимальные варианты соседства полотен. Он переживал великие дни: видные, известные стране и миру ученые, сами коллекционеры, подолгу беседовали с ним; он взволнованно обсуждал возможное авторство анонимных картин и старался не думать о том, что долгие десятилетия то, что сейчас его окружает, покоилось в тесно набитой комнате…
Потом он уехал – дома оставались еще две тысячи, надо было решить их судьбу. Он уехал с уверенностью, что половина коллекции устроена надежно, ничего, что пока в Доме ученых выставлена лишь часть ее, рождение галереи – дело не одного дня, нужна серьезная оргработа, надо набраться терпения…
А через некоторое время получил из этого города, от любителя живописи, с которым успел подружиться, опечалившее его письмо. Картины со стен сняли. Жигалко написал, и ему ответили, чтобы не волновался, картины опять вернут. А местные печать и радио замолчали, и никто не заговаривал больше о постоянно действующей картинной галерее. Жигалко, теряя терпение (особенно возмутило его известие, что картины лежат на железнодорожном складе), послал резкое письмо, его уведомили холодно и четко, что картины помещены в запасники библиотеки Дома ученых. А в этих запасниках Жигалко бывал тогда, в незабываемые дни торжеств – там душно, для картин нехорошо. «Да, – думал он вечерами, – выставка – это мимолетная радость, однодневное торжество, а картинная галерея – будни, штаты, сметы, реконструкция, ремонты. А у них наука, большие дела, до меня ли…»
И тут Жигалко в состоянии духа, как думается мне, несколько раздражительном – сердясь более на себя самого, – утратив надежду на рождение постоянной галереи, сохраняющей навечно в чудесной цельности собранные им сокровища, начал раздаривать полотна. Несколько этюдов Левитана он подарил Дому-музею П.И.Чайковского в Клину. И волей судьбы этот нечаянный подарок решил участь его сокровища. Одна из сотрудниц дома-музея, будучи на родине композитора, рассказала в молодом городе Чайковском о том, что живет в Москве старый-старый коллекционер, который хочет подарить великолепное собрание картин и не может найти кому… Люди, которым сотрудница об этом рассказала, разумеется, не поверили (да я и сам бы, услышав, не поверил), подумали: легенда; и вот пошла легенда гулять по городу, дошла до горкома партии и горисполкома; и вызвали туда директора местного малюсенького краеведческого музея Николая Петровича Кузьмина, попросили его написать в Москву Жигалко, а если надо, то и поехать к нему.
А когда в Чайковском удостоверились, что за легендой стоит реальность – четыре тысячи полотен, – местная общественность повела дело настолько целеустремленно и энергично, что теперь уже не Жигалко наступал, а его самого осаждали: «Берем, устроим музей, это наше, наше!» Сообщения сыпались на него без перерыва: нашли двести сорок квадратных метров… решили, мало… нашли девятьсот квадратных метров, началась реконструкция… строителей выделил Воткинскгэсстрой… текстильный комбинат готовит портьеры… Весь город строит музей! И в этих сообщениях не было восторженного пустословия: город действительно строил, точнее, перестраивал старый дом, создавая «нашу Третьяковку».
Новую картинную галерею Чайковский открыл в день рождения Александра Семеновича Жигалко – ему исполнилось восемьдесят четыре года. Его поздравили пятьдесят тысяч человек. День его рождения праздновал весь город.
Было это в феврале; в залах местной «Третьяковки» выставили две тысячи полотен. Остальные две тысячи оставались пока в научном городе. Александр Семенович собрал все душевные силы и написал письмо о расторжении дарственной, ибо не выполнено основное ее условие: «показ картин народу». В этом письме он сообщил о рождении постоянной галереи в Чайковском: «Мое сокровище нашло родной дом». В июле Жигалко получил ответ: «Мы готовы вернуть Вам Ваш дар». Брюллов, Репин, Левитан поехали в последний раз – в город Чайковский.
И опять я сижу в его комнате (он переехал недавно в новый дом, а тот, где десятилетия хранились четыре тысячи полотен, пошел на слом), сижу за столом, заваленным бумагами, по-прежнему листаю их, перечитываю.
Александру Семеновичу все еще нездоровится, изредка обмениваемся замечаниями, а все больше думаем. Я думаю о том, что Жигалко совершил нечто удивительное, завершившее собой его жизненный путь, путь к истине. Уже на излете жизни он осуществил ту великую переоценку ценностей, которая сообщила его бытию высший смысл.
Все помыслы его сейчас в Чайковском. О былых мытарствах он говорит полушутливо:
– Нетерпелив я был. Надо было подождать, попросить, поклониться, задобрить, а я резкие письма писал.
– Задобрить? – удивляюсь. – Ведь вы же дарите?
– Ну и что ж, что дарю. Бывают подарки и обременительные.
– Но вот же Чайковский не нужно было задабривать.
– Чайковский, – улыбается. – Чудо…
В разговоре со мной один из коллекционеров назвал Жигалко Дон-Кихотом. В душевном «зерне» и внешнем облике его действительно есть что-то подкупающе-явственное от «рыцаря печального образа». Жигалко сухопар, высок, часто поверх собеседника рассматривает что-то, как будто видимое ему одному. Его медлительность, даже некоторая заторможенность, порой резко обламывается порывистым жестом, быстрым ритмом речи, как у человека, который мешкал перед дорогой и, решившись наконец, не идет, а бежит по ней.
Я опять оглядываю стены комнаты, на которых висит то неотрывное, что он себе из четырех тысяч оставил. И, угадав мои мысли, Жигалко говорит:
– А Николая Петровича Кузьмина вы не осуждайте за то, что он в том письме потребовал и это, последнее… Он удивительный человек, ему сесть в поезд… – И, понизив голос: – Я беспокоюсь, уж не собственные ли деньги он мне посылает, ведь получаю из Чайковского почти ежемесячно шестьдесят.
Страсть собирать уступила в этой жизни иной, высокой страсти – отдавать. Наступило ясное понимание того, что собирательство без венчающего действия – от себя – бессмысленно. И в этом урок жизни, о которой я пишу. Наверное, высокое желание отдавать нельзя называть страстью именно в силу этого высокого понимания, ибо давным-давно отмечено, что страсть – стремление, не повинующееся разуму; потребность же одаривать мир и людей глубоко разумна, ее питает мудрая мысль о единстве «общины» и личности, человека и мироздания.
Петрарка писал в одном из сонетов о горечи «позднего меда»; это относится не только к любви, но и к меду поздней мудрости. И не от этой ли горечи та самая ирония, которая была не полностью понята мной, но явственно ощущалась в первой беседе с Жигалко. Почувствовав однажды иронию жизни, он, несравненно поумнев, сумел обратить ее на себя.
Особенность этого характера и этой судьбы в том, что его дар людям оказался и выявлением собственного дара: человек понял, что, «зарывая в землю» картины, он, в сущности, зарывал и себя, зарывал талант.
Жить и умереть
После опубликования истории о коллекции Кириллова я получил письмо из небольшого города от бухгалтера Лидии Петровны Кучеровой.
«…Мне и моим товарищам хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе коллекции Кириллова, убитого собственным сыном. В чьих руках она сегодня, кого радуют эти бесценные вещи?.. Когда у нас читали и обсуждали Ваш очерк, кто-то напомнил о том, что несколько лет назад Вы же, кажется, писали об одном старом коллекционере, который подарил небольшому городу несколько тысяч картин. Хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе и этой коллекции. Если нам не изменяет память, была открыта целая картинная галерея, “местная Третьяковка”?..»
То, о чем рассказано будет ниже, можно рассматривать как развернутый ответ читателям, которые делились мыслями о высших целях собирательства – этой (по выражению автора одного из писем) «загадочнейшей страсти, заставляющей порой и нравственного человека совершать безнравственные поступки».
Оттенки «загадочнейшей страсти» я имел возможность наблюдать в кулуарах суда, когда рассматривалось дело об убийстве Кириллова. О возможной дальнейшей судьбе коллекции рождались легенды, шепотом назывались вещи, цены фантастически росли…
В те дни я часто думал о том, что на «тайном аукционе» в кулуарах суда оказался бы непременно и герой старого моего несудебного очерка «Дар» Александр Семенович Жигалко, проходи аукцион этот несколько десятилетий назад, до духовного переворота, который он – один из самых страстных коллекционеров – пережил…
Сегодня – за пять с половиной лет существования – картинную галерею в Чайковском посетили полмиллиона человек (население Чайковского 60 тысяч). Но перед тем как рассказать более подробно об этой галерее (то есть ответить на вопрос читателей о дальнейшей судьбе коллекции Жигалко), мне хочется поделиться тем, что я узнал уже после опубликования очерка «Дар».
Мы виделись с Александром Семеновичем время от времени, мне запомнилось, как он улыбался – редко, с явным усилием; будто «открывается заржавевшая дверь», писал об этих трудных улыбках Лев Толстой. Однажды сидели мы у него: сам хозяин, его гость из Чайковского – Николай Петрович Кузьмин, директор местного музея, – и я.
Александру Семеновичу было уже за восемьдесят, но он думал о жизни, думал и говорил о том, что будущей весной поплывет по Волге и Каме в Чайковский. Разумеется, в Чайковском он уже бывал (на открытии галереи разрезал торжественную ленту), но тогда добирался поездами, а хотелось именно поплыть – великими реками, в радость. И говорил он о будущей весне уверенно, как бессмертный.
Потом, как это часто с ним бывало, перешел неожиданно на тон суховатый, чуть ироничный:
– Помечтали, а теперь о деле. – И обратился к Кузьмину: – Поедете послезавтра – захватите и это…
– Что это? – застыл Кузьмин, уже понимая, но не решаясь поверить.
– Это… – посмотрел Жигалко на стены, увешанные немногими, самыми неотрывными от его жизни вещами.
И Кузьмин, мечтавший тайно и явно об этом бесценном, редчайшем даре (эскизы Репина, рисунки Серова, экспромты Коровина), который может сообщить галерее в Чайковском особое очарование, растерялся от неожиданности и от будничности, что ли, происходящего.
– Нет, Александр Семенович… – забормотал он, тоже весьма немолодой человек, беспомощно забормотал, как ребенок.
А Жигалко молча, с небольшим усилием подошел к стене, поднял руки… Когда стена обнажилась заметно, а сам он устал, то уронил себя в старое кресло и улыбнулся, подумал вслух, опустив низко голову:
– Время – собирать и время – дарить. – И обратился уже непосредственно к нам: – Понимаете?
Мы ответили, что понимаем.
– Нет, – не поверил он, – не понимаете. Чтобы это понять…
И тут Жигалко высказал мысль, напоминающую почти дословно одну из излюбленных мыслей Толстого: понимать вещи – это побывать в них, а потом выйти из них…
А теперь я вынужден коснуться обстоятельств и отношений, о которых писать в литературе документальной не принято, они – достояние литературы художественной, «берущей» человека безбоязненно, со всем хорошим и дурным, явным и тайным, великим и ничтожным, что составляет его существование, ибо тут острие плуга при глубинной вспашке никого конкретно не поранит. Я вынужден переступить порог, нарушить табу, чтобы совместно с читателем лучше понять моего героя. Делаю это с разрешения женщины, о которой пойдет речь ниже, – Ольги Ивановны Тарасевич.
После опубликования очерка «Дар» – весной 1972-го – я получил от нее письмо. Рассказывалось в нем о первых месяцах войны, о бомбежках Москвы и о картинах…
«…Мы уходили после сигнала воздушной тревоги в бомбоубежище, устроенное в овощном подвале соседнего большого дома. Одни, помню, были тут с детьми на руках, другие – с узлами домашнего скарба, а у нас с Александром Семеновичем в руках были завернутые в наволочки и простыни картины. Помню, одна умилительная старушка спросила меня: “Какая у тебя икона, милочка?” А это были Левитан, Репин…
Когда фашистские танки подходили к Москве, мы увезли самые ценные картины в поселок Семхоз под Загорском, но, так как и там падали бомбы, Александр Семенович решил зарыть картины в землю. Он вырыл в сарае большую и глубокую яму и опустил туда, как в могилу, снятые с подрамников, завернутые в клеенку и упакованные в ящики любимые свои картины. В те дни стоял крепкий мороз, и А.С. был спокоен за сохранность картин. Мы уехали в Москву. А недели через две неожиданно наступила оттепель! Надо было немедленно ехать в Семхоз, спасать картины. Помню, как он волновался, когда начал копать землю и понял, что там – влага. Он боялся за картины, а я тогда боялась за него, что сердце не выдержит. Некоторые полотна оказались значительно поврежденными. А.С. разложил их на столах и на полу в комнате, которую мы в поселке снимали; затопили печь, но надо было следить за температурным режимом. К счастью, по соседству жила семья художников и скульпторов Чураковых. Молодой Чураков (впоследствии он участвовал в реставрации картин Дрезденской галереи) помог Александру Семеновичу спасти поврежденные полотна.
А враги подходили все ближе и ближе. Наступили критические дни. У Александра Семеновича тогда возникла мысль: нанять лошадь и телегу, погрузить картины и ехать в глубь леса, к северу от Загорска. Теперь эта мысль кажется неправдоподобной… Но тут наступил перелом. Фашистские войска были отброшены от Москвы. Мы вернулись в город…»
Они вернулись, и они расстались, казалось, навсегда.
Если ты разлюбил, я тебя не виню. Разве можно за это винить? Из остывшего пепла не вспыхнуть огню, не скрепить обгоревшую нить. Но тебе я забыть никогда не смогу, что ушел ты не в мирном году, а когда был наш город в огне и в снегу и одна я встречала беду.
(Это – ее стихи, написанные тогда.)
Ты оставил меня в темном доме одну, разрубил наш сердечный союз…
Они были мужем и женой восемнадцать лет.
Те самые восемнадцать, когда и составился основной фонд коллекции.
Судьба соединила диковинно этих людей: ее, беспечную и безразличную к вещам, и его, коллекционера, охотника за вещами. (В самом уже конце их совместной жизни она совершила нечто мало постижимое для него: собственный дом в арбатском переулке, находящийся под охраной как памятник архитектуры, передала безвозмездно Моссовету – дом этот Советская республика оставила ее семье за немалые заслуги. Конечно, передачу дома можно было объяснить и тем, что убирать его, поддерживать тяжело, но ведь и передачу четырех тысяч картин государству – через ряд долгих десятилетий – тоже можно, резко заземлив «возвышенное деяние», объяснить тем, что тяжело сохранять в рядовых условиях, обладая в Москве двумя или тремя комнатами, большую коллекцию. Подобные соображения, объясняя, казалось бы, все, не объясняют, в сущности, ничего, ибо не касаются духовно-нравственных мотивов деяния.)
Странной была жизнь двух этих людей с постоянной явной и тайной борьбой центробежных и центростремительных сил: от себя и к себе. Но перетягивала, побеждала его сосредоточенная сила – сила мужчины, искателя сокровищ и кладов, сила собирателя – одновременно пирата и аскета.
И в этом доме, как в доме Кириллова, безраздельно господствовала Ее Величество Коллекция. И эта жизнь, как и жизнь семьи Кирилловых, полна была подробностей, ранящих душу навечно.
…Вот вечером пьют они чай: он, она и дочь его от первой жены, Ирина (Ольга Ивановна была второй женой Жигалко), пьют бедный чай из старых, некрасивых чашек на пустом столе, и не может она, жена, хозяйка, поднять головы и сказать, что дочь его бывает редко и, конечно же, любит, как все дети, пирожные и варенье. И он молчит сурово, весь во власти важных дум. А за белым морозным окном – метель. И дочь после чая уходит.
– Ты видел: на ней парусиновые туфли.
Он молчит.
– Твоя дочь в летних туфлях зимой. В окно посмотри.
Не поднимая головы, он направляется в соседнюю комнату, к Репину и Серову, к Коровину…
Он и от нее в войну, уже немолодой, ушел к ним, ушел в последний великий поиск, на последнюю большую охоту, в ту круговерть безумных, странных, невероятных ситуаций и возможностей, которые во все века открывали перед коллекционерами войны и любые социальные потрясения. К его чести, в войну коллекция почти не увеличилась, но это, как и дальнейшие события его жизни, было жене неизвестно и уже безразлично.
Как же надобно было меня обидеть, чтобы не стала я плакать, любовь храня, чтоб не стала я даже тебя ненавидеть, а чтоб заживо умер ты для меня!
Он и умер для нее заживо. Она осталась одна – детей у них не было – с чувством великого поражения… И лишь в том утвердила собственную личность, что не потребовала, не оставила себе ни одной картины, хотя чисто юридически существенная часть коллекции была ее собственностью. Она осталась одна с чувством поражения, и, если бы тогда нашелся кто-то, открывший ей в будущем победу, она ни за что бы не поверила…
Об этом старая женщина рассказывала мне в один из ясных дней поздней московской осени, в засыпанном желтой листвой саду дома Льва Толстого в Хамовниках. В том, что мы выбрали именно это место, не было ничего нарочитого или искусственно-тенденциозного: она живет рядом, и после недавно перенесенного инфаркта сидеть в саду ей лучше, чем в комнате. В то же время сидели мы в этом саду не случайно, потому что поселилась она по соседству ради этого дома, ради этого сада. Толстой и открыл ей тогда ее победу в будущем, и она не поверила ему, несмотря на то, что это был Толстой.
«Я осталась одна, надо было жить, зарабатывать. До войны я печатала и стенографировала беспрерывно, коллекции нужны были деньги. А в войну бумаги не писали, а жгли, и я не могла найти дела. Долго, пока не познакомили меня с Николаем Николаевичем Гусевым, секретарем и биографом Толстого. Это и решило мою судьбу, я стала с ним работать. Десять лет он диктовал мне воспоминания о Льве Николаевиче, материалы к его биографии. Десять лет я жила в атмосфере мыслей и чувств Толстого.
Я рассказала Николаю Николаевичу мою историю, он меня успокаивал, утешал. “Человеку, которого вы любили, откроется истина”. – “Да не верю я вам”, – говорила я. “Вы не мне, вы Льву Николаевичу верьте”, – отвечал он серьезно, даже торжественно. Ну вот… потом раны постепенно уврачевались, я опять вышла замуж – за умного, доброго, талантливого человека, жила с ним душа в душу… похоронила и опять осталась одна.
Когда появился ваш “Дар”, я… это, наверное, странно, непонятно… – я обрадовалась, будто бы не Чайковскому, а мне подарили его. И я ему, Александру Семеновичу, написала: “Вы красиво и мудро закончили вашу собирательскую деятельность”. Он мне ответил, я опять написала, он мне опять ответил…
Потом я поехала к нему, он был тогда нездоров и не мог выйти из дома.
Мы не виделись тридцать лет, он сидел на балконе, увидел меня, показал, куда нужно войти… Я поднялась, он стоял на пороге. Дальше я ничего не помню. Я не помню дальше ничего. Я помню одно – он рыдал…»
Темнело в саду; в окнах толстовского дома отразился закат; листопад усилился. Мы решили войти в этот дом – отдохнуть, помолчать. В пустых сумеречных комнатах охватывало чувство покоя: не шли часы; стыли вещи; замирали шорохи, и лишь на пороге его кабинета с раскрытыми томами и, казалось, непросохшими, неостывшими рукописями, что-то мощно подкатывало к горлу…
«Чтобы поверить в добро, – писал Толстой в “Круге чтения”, – надо начать делать его… и эта твоя деятельность зажжет в тебе любовь к человечеству, которая и будет последствием твоей деятельности, направленной на добро».
«Делай только то, что духовно поднимает тебя, и будь уверен, что этим самым ты более всего можешь быть полезен обществу».
Потом мы опять сидели в саду. Она рассказывала:
«Тогда заживо умер, теперь воскрес из мертвых. Я ощутила то духовное единение с ним, о котором мечтала давным-давно, в нашей жизни. Я говорю о высшем, духовном единении, и лишь о нем. После войны он тоже построил новую семью, третью за его большую, долгую жизнь; он любил жену, Надежду Александровну Любарскую, и она его любила, ухаживала за ним…
А я… опять стала писать стихи.
Мы в нашей повести живой с последней встретились главой, с главой, в которой я и ты у роковой стоим черты. Еще одну, еще одну страницу я переверну, и вижу я – совсем близка ее последняя строка…
Я написала это весной семьдесят третьего, за три дня до… Умер он в больнице от воспаления легких. Доктор, который был при нем последние минуты, рассказывал мне, что он умер улыбаясь».
«Когда ты явился на свет, ты плакал, а кругом все радовались, сделай же так, чтобы, когда ты будешь покидать свет, все плакали, и ты один улыбался».
Быстро темнело; в окнах толстовского дома засветились лампы, резче стал запах листьев.
«Он умер старым, и он умер молодым – лишь через несколько лет после духовного рождения. Вы поверите, я совсем не чувствовала его старости, мне казалось, что полвека назад он был старее».
Надежда Александровна Любарская, вдова Жигалко, отдала картины, которые были ей подарены при его жизни и перешли по завещанию, Чайковскому.
Ну а что стало с девочкой, которая в летних туфлях ушла в московскую метель? Она умерла. Она умерла совсем недавно, когда я писал эти строки: кандидат искусствоведения, старейший сотрудник ВГИКа Ирина Александровна Жигалко. Она была человеком ярким, талантливым, душевно щедрым, работала с Михаилом Роммом, в его творческой мастерской, у нее учились Тарковский, Смирнов, Михалков-Кончаловский, Митта. У нее учился Шукшин, которого она нежно любила и который нежно любил ее.
Когда Жигалко, склоняясь к мысли отдать коллекцию народу, советовался с ней, она обняла его… И тоже передала Чайковскому все, что подарил и завещал ей отец.
Надежда Александровна Любарская и Ирина Александровна Жигалко после кончины Александра Семеновича передали картинной галерее более четырехсот полотен и рисунков.
Никто не оставил себе ничего.
P.S. Когда в суде разбиралось дело об убийстве Кириллова и шел в кулуарах «тайный аукцион», некто высокий, респектабельный и уже старый выпалил на взлете азартной минуты, что за одну из действительно бесценных и редких вещей может выложить… И с разбегу назвал цифру удивительную, фантастическую. И тогда юный, небрежно и бедно одетый, видно, начинающий коллекционер наивно осведомился: не ослышался ли он, действительно ли располагает респектабельный человек подобной суммой? «Милый, – рассмеялся тот, – моих денег достанет на пять человеческих жизней, на пять жизней, – голос его надломился, – соответствующих моим желаниям, моим капризам, на пять моих жизней!».
Он высказался, потух, удалился, а я подумал: ну зачем ему пять жизней? Зачем нереальных пять жизней, когда достаточно одной, чтобы не умереть никогда?
P.P.S. Уже закончив очерк, я спохватился, что, увлекшись судьбой коллекции Жигалко, не ответил четко на вопрос моей корреспондентки о дальнейшей судьбе коллекции Кириллова. За отсутствием наследников (единственный сын Кириллова, которому тот завещал всё, лишался наследства как лицо, участвовавшее в его убийстве, тем самым наследства лишалась и его семья, не имели отношений к коллекции и родственники второй жены Кириллова, убитой с ним, ибо ценности были собраны при первой его, покойной жене) – за отсутствием наследников «коллекция передается в музеи».
Воспоминания о Таллине
Возвращаясь из летнего путешествия, мы на один день остановились в Таллине и, обежав старый город, уже к вечеру узнали об открытии нового музея в реставрированных развалинах доминиканского монастыря.
Я помнил хорошо эти руины. Их суровая живописность бередила воображение. Серый, тяжкий, изрытый большими оспинами камень и разрушаясь держал в тайне дух XIII столетия. Бывая в Таллине раньше, я не раз о толщу этих стен расшибал лоб в надежде увидеть хоть что-то, но не мог отыскать в камне и тончайшей, с лезвие ножа, расщелинки.
Реставрация этой старейшей в Таллине постройки – дело живое и творческое, рассказывали мне эстонские архитекторы и историки. «Вообразите урок по истории XIII–XV веков в стенах, построенных в ту же эпоху! У вас есть дети? Дочь? Вот и подумайте о той полноте живого чувства истории… Работа же для этого нужна минимальная – не строить, а открывать».

