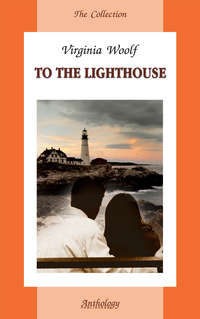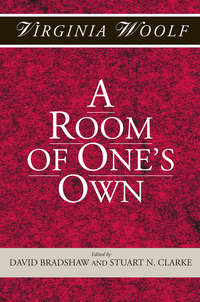Полная версия
На маяк
Оба снимали жилье в деревне и, входя и выходя, расставаясь вечером у дверей, иногда обменивались замечаниями о супе, о детях, о том о сем, что сделало их союзниками, и теперь он стоял позади нее с бесстрастным видом (по возрасту он годился ей в отцы – ботаник, вдовец, благоухает мылом, крайне щепетильный и опрятный), и она осталась на месте. Он отметил, что туфли у нее превосходные, широкие, движений пальцев не стесняют. Проживая с ней в одном доме, он также обратил внимание, как регулярно она занимается живописью – встает задолго до завтрака и пишет картины в одиночестве; вероятно, бедна, и ни миловидность, ни обаяние мисс Дойл ей несвойственны, зато она весьма проницательна, что намного предпочтительнее. К примеру, когда Рамзи обрушился на них, крича и размахивая руками, мисс Бриско наверняка все поняла.
Допущена фатальная ошибка!Мистер Рамзи смотрел на них пристально. Он смотрел на них, не видя. Почему-то обоим стало неуютно. Они увидели то, что не предназначалось для чужих глаз, вторглись в чужую жизнь. Вероятно, подумала Лили, поэтому мистер Бэнкс почти сразу и решил покинуть пределы слышимости, воспользовавшись первым подходящим предлогом: сказал, что стало прохладно, и пригласил ее немного пройтись. Да, она пойдет. Но взгляд от картины Лили оторвала с большим трудом.
Клематис пылал лиловым, стена была ослепительно-белой. Лили не решилась бы нарушать оригинальные цвета, потому что видела их именно такими, хотя в свете новейших веяний, особенно после визита мистера Понсфорта, полагалось видеть все в бледных, изысканных, полупрозрачных оттенках. А ведь кроме цвета, есть еще и форма… Она видела все так четко, так уверенно, однако стоило взять в руки кисть, как все менялось. Именно в тот миг, когда она переводила взгляд с натуры на холст, ее охватывали сомнения, порой доводя до слез и делая переход от замысла к творению устрашающим, как темный коридор для ребенка. Ей часто приходилось бороться изо всех сил, чтобы сохранить самообладание, сказать себе: «Но я ведь так вижу, я вижу именно так» и тем самым прижать жалкие остатки своего видения к груди, борясь с неисчислимым воинством, норовящим вырвать его прямо из рук. Ощущая гнетущее чувство тревоги, она начинала писать, и на нее разом обрушивалось все – и собственная никчемность, и бесталанность, и необходимость заботиться об отце, живущем на задворках Бромптон-роуд, и так и тянуло броситься (слава небесам, до сих пор ей удавалось сдержать порыв) перед миссис Рамзи на колени и воскликнуть – но что она могла сказать? Я влюблена в вас? Нет, неправда. Я влюблена в это все! – и обвести рукой зеленую изгородь, дом, детей. Нелепо, немыслимо!..
Лили аккуратно сложила кисти в ящичек и сказала Уильяму Бэнксу:
– Холодает теперь быстро. Видимо, солнце дает меньше тепла, – проговорила она, оглянувшись по сторонам. Хотя было еще достаточно светло, трава росла мягкая и пышная, дом утопал в зелени и лиловых страстоцветах, грачи роняли спокойные крики из высокой синевы, в воздухе что-то чувствовалось – сверкнуло, промелькнуло серебристым крылом. Уже сентябрь, середина сентября, и седьмой час вечера. И они отправились по саду привычным маршрутом, мимо площадки для игры в теннис, мимо пампасной травы к прогалу в густой изгороди, по бокам которого часовыми стояли книпхофии, пламенея, словно горящие угли, и сквозь них синие воды залива казались необычайно яркими.
Они исправно приходили туда каждый вечер, влекомые непонятной нуждой. Как будто в морской воде их застывшие на берегу мысли оживали и отправлялись в свободное плаванье, и тела испытывали буквально физическое облегчение. Синева пульсировала, сердце расширялось с ней вместе, и тело пускалось вплавь, через миг врезалось в колючую черноту мятущихся волн и замирало. Изредка из-за огромной черной скалы вырывался белый фонтан воды; ждать его приходилось долго, а видеть было радостно, и в томительном ожидании на бледном полукруглом берегу они наблюдали, как гладкая волна набегает на волну, затягивая залив перламутровой пленкой.
Стоя там, они улыбались. Оба чувствовали общее оживление, радуясь бегу волн и плавным движениям парусника, который заложил вираж и остановился, дрогнул, и паруса опали; повинуясь естественному стремлению завершить картину, оба перевели взгляд на дюны вдалеке и внезапно ощутили печаль, отчасти потому, что картина приобрела законченный вид, отчасти потому, что дальние виды переживут любого наблюдателя на миллион лет (подумала Лили) и уже соединились с небом, созерцающим погруженную в покой землю.
Глядя на далекие песчаные холмы, Уильям Бэнкс подумал о Рамзи посреди Вестморленда, представил, как тот бредет по сельской дороге, окруженный столь типичным для него ореолом одиночества. Внезапно Бэнксу вспомнился реальный случай: курица растопырила крылья, защищая выводок цыплят, и Рамзи остановился, ткнул тростью и проговорил: «Мило, очень мило!», явив себя с совершенно неожиданной стороны – показав свою простоту и добродушие, но именно после этого, мнилось Бэнксу, их дружба сошла на нет. Вскоре Рамзи женился. То одно, то другое, и дружба измельчала. Он не мог бы сказать, чья в том вина, просто через некоторое время новизна сменилась однообразием. При встречах они лишь повторяли уже сказанное. Тем не менее в безмолвном диалоге с песчаными дюнами он осознал, что привязанность к Рамзи ничуть не угасла, и, как тело юноши, пролежавшее в торфяных болотах целое столетие, сохранило алость губ, так и дружба, погребенная в дюнах возле залива, не утратила ни остроты, ни истинности.
Во имя этой дружбы и, вероятно, желания убедить себя, что вовсе не очерствел и не скукожился – ведь Рамзи живет с выводком детей, в то время как Бэнкс бездетный вдовец, – ему не хотелось, чтобы Лили Бриско недооценивала Рамзи (человека по-своему великого) и все же поняла, что стоит между ними. Начавшись много лет назад, их дружба исчерпала себя на сельской дороге в Вестморленде, где курица растопырила крылья, защищая своих цыплят. Рамзи женился, пути их разошлись, в чем нет ничьей вины, и при встречах оба стали повторяться.
Вот, собственно, и все. Он закончил, повернулся к заливу спиной. Собравшись идти обратно другим путем, по подъездной дорожке, мистер Бэнкс внезапно осознал то, чего не понял бы без откровения песчаных холмов, без тела с алыми губами, погребенного в торфяных болотах – к примеру, сейчас малышка Кэм, младшая дочь Рамзи, рвала на берегу душистую резеду. Взбалмошная вредина! Отказалась «дать джентльмену цветочек», как велит няня. Нет-нет-нет! Ни за что! Сжала кулачок, затопала ножками. Мистер Бэнкс почувствовал себя старым, загрустил и понял, что дружба ни при чем. Пожалуй, он все-таки очерствел и скукожился.
Рамзи небогаты, и просто удивительно, как им удается сводить концы с концами. Восемь отпрысков! Содержать восьмерых детей за счет философии! Вот и еще один прошел мимо, на этот раз Джаспер, собрался птиц пострелять, беззаботно сообщил он, покачав руку Лили, словно рычаг насоса, и мистер Бэнкс с горечью заметил: она-то пользуется у них успехом. К тому же всех следует выучить (правда, у миссис Рамзи могут быть и свои средства), не говоря о постоянных расходах на ботинки и чулки для этих славных ребят – рослых, задиристых, бессердечных юнцов. Он особо не различал, кто из них кто, кто за кем идет, поэтому про себя окрестил их в честь английских королей и королев: Кэм Злая, Джеймс Бесщадный, Эндрю Разумный, Прю Красивая – ведь Прю наверняка вырастет красавицей, тут уж ничего не поделаешь, а Эндрю – умницей. Поднимаясь по дорожке, Лили Бриско отвечала «да» и «нет», отметала критические замечания в их адрес (она любила всех Рамзи поголовно, любила весь свет), а мистер Бэнкс тем временем размышлял о положении Рамзи, то сочувствовал ему, то завидовал, ведь все происходило у него на глазах – тот добровольно отказался от ореола уединения и аскетизма, венчавшего его в юности, обременил себя многочисленным семейством, над которым теперь кудахтал, расправив крылышки. Следует признать, подобная жизнь не лишена кое-каких радостей – к примеру, приятно, когда малютка Кэм продевает цветок тебе в петличку или залезает на плечи, как к отцу, чтобы посмотреть на картину извержения Везувия, но старые друзья видят: дети в нем что-то сломали. Интересно, что думают посторонние? Что думает Лили Бриско? Разве никто не замечает его странных повадок? Чудачеств, даже слабостей? Поразительно, насколько человек подобного ума низко пал – нет, пожалуй, слишком сильно сказано – падок на похвалу.
– Да, но подумайте о его работе! – воскликнула Лили.
Всякий раз, «думая о его работе», она представляла большой кухонный стол. Так вышло с легкой руки Эндрю. Однажды Лили спросила, о чем книги его отца. «Субъект, объект и природа реальности», – ответил Эндрю. И она воскликнула: «Господи, да я понятия не имею, что это значит!», на что Эндрю заметил: «Представьте кухонный стол, когда вас нет на кухне».
И теперь, думая про работу мистера Рамзи, она всегда видела кухонный стол. Сейчас он застрял в развилке груши, поскольку они уже добрались до сада. Мучительным усилием Лили сосредоточилась не на бугристой коре дерева или похожих на рыбок серебристых листьях, а на воображаемом кухонном столе – одном из тех выскобленных дочиста деревянных столов, щербатых и узорчатых, чьи достоинства обнажаются с годами безупречной прочности, который торчал вверх тормашками, задрав все четыре ноги. Разумеется, если все твои дни проходят за созерцанием угловатых сущностей, если ты лишаешь себя прелестных вечеров с розовыми, как фламинго, облачками, небесной синевой и серебром, променяв их на белый стол с четырьмя ножками (ведь так поступают все лучшие умы), разумеется, тебя нельзя судить как обычного человека.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Здесь и далее мистер Рамзи декламирует стихотворение Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерии», посвященное битве при Балаклаве во время Русско-турецкой войны 1854 года. (Здесь и далее – прим. перев.)