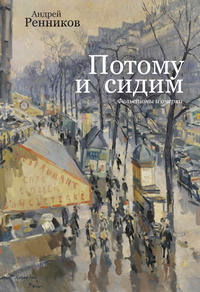Полная версия
Под теми же звездами
Коренев пробормотал последние слова про себя, покраснел и сел на место.
Нина Алексеевна Зорина наклонилась к нему и с улыбкой прошептала:
– Чего вы так стесняетесь? Ей-Богу, не стоит. Коренев криво усмехнулся и шепотом ответил:
– Да я не привык выступать, Нина Алексеевна. А в особенности перед такими идиотами, как эти.
– Скажите пожалуйста, monsieur, – обратилась к Кореневу жена полковника генерального штаба, играя лорнетом на золотой цепочке, – а нет ли жизни, например, на планете Сириус? Всегда, когда я смотрю на Сириус, мне так и кажется, что на нем должна быть жизнь. Он такой яркий, такой искристый… Я часто им любуюсь летними вечерами.
Коренев встал и, усмехаясь, ответил:
– Извините, madame, вы ошибаетесь. Во-первых, Сириус не планета, а звезда. А во-вторых, вы его не можете видеть летними вечерами: он не виден по вечерам летом.
Дама с лорнетом покраснела.
– Как странно, – обидчиво ответила она, растерянно глядя по сторонам, как бы ища помощи, – я ведь не ученая астрономка какая-нибудь, чтобы разбираться в таких пустяках. Для меня это неважно, как звать звезду: Сириус или Алкоголь какой-нибудь, – добавила она язвительно.
– Алголь, а не Алкоголь, – поправил, не вставая с места, Коренев.
– Хм! – громко кашлянул муж дамы – полковник, заерзав на месте.
– Алголь, ха-ха! – саркастически воскликнула полковница. – Как это существенно. Нет, какой он невежа, Саша! – удивленно прошептала она, обращаясь к своему мужу.
– Оставь его, – отвечал громко полковник, стараясь быть услышанным всеми, – охота связываться Бог знает с кем. Сиди спокойно.
Коренев густо покраснел. Между тем княгиня поспешно встала и громко проговорила:
– Господа, предлагаю вам сделать перерыв и отдохнуть. Прошу в столовую поужинать. Милости просим.
Она обратилась к дамам, подходя к каждой из них отдельно. Все неловко поднимались с мест, некоторые шептались между собой и подходили к хозяйке, желая проститься.
Первым подошел Коренев. Он сухо поклонился и сказал:
– Очень вам благодарен, madame, за доставленное удовольствие. Простите, мне нужно идти.
В голосе его зазвучала насмешливая нотка. Княгиня с удивлением посмотрела на него и слегка ответила на поклон. Ее сильно обидело подобное обращение: «madame» вместо «княгиня».
Вслед за Кореневым стали прощаться Нина Алексеевна и приват-доцент Никитин.
– Куда же вы? – спросила удивленная княгиня.
– Мне нужно быть дома к одиннадцати часам, княгиня, – проговорила, слегка краснея, Нина Алексеевна, – у меня братишка нездоров, а отец дежурит в редакции.
– А мне нужно еще приготовиться к завтрашней лекции, – пробормотал, подходя после Нины Алексеевны, Никитин.
– Очень жаль, – протянула княгиня. – Ну, что же делать… Приходите, господа, на следующее заседание в четверг. Буду очень рада.
Пока Коренев и Никитин одевались с Ниной Алексеевной в передней, гости уже наполнили столовую и рассаживались за столом, блиставшим серебром и хрусталем. В столовой стало шумно, оживленно. Через час, когда уже были съедены закуски, поданы горячие блюда и несколько сортов вина исследовано любителями, все стали чувствовать себя гораздо более непринужденно, чем в зале во время заседания.
– Господа, – встал, отодвинув стул, один из преподавателей, держа в руке бокал, – позвольте выпить за здоровье милой хозяйки дома, ура!
– Оо…о! – раздался в столовой гул одобрения; все стали чокаться с княгиней, а полковница, имевшая с Кореневым столкновение из-за Сириуса, выждав пока все усядутся, заговорила:
– Дорогая Полина Михайловна! Я откровенно скажу, что ваша мысль учредить научно-популярный психологический кружок прямо гениальна. Я давно не проводила так полезно время, как сегодня: все эти теории о переселении душ, о духах и привидениях так увлекательны, так интересны! Я очень рада, что познакомилась с психологией: это прекрасная наука, могу смело сказать. Благодарю вас, дорогая Полина Михайловна, за себя и всех присутствующих!
Новый гул голосов покрыл слова полковницы, а жена одного из судейских заметила:
– Я вполне и во всем согласна с Александрой Васильевной. Одного только я боюсь: чтобы не было у нас излишней сухости в заседаниях. Мне кажется, можно было бы программу кружка несколько расширить и устроить кроме занятий психологией и спиритизмом еще какое-нибудь отделение: музыкальное, что ли.
– А что же, это идея, – сказал полковник, наливая себе красного, – это идея. Музыкально-вокальное психологическое общество. Недурно, очень недурно!
– Об этом стоит подумать, – заметила снисходительно княгиня, – занятия музыкой действительно явятся естественным отдыхом после серьезной строго научной части заседания. Петр Леонидович, что вы об этом думаете?
Петр Леонидович, откусивший в это время большой кусок сочной груши, заерзал на месте, поспешно вытащил оставшийся кусок назад, сделал три крупных глотка, и, вытирая салфеткой подбородок, по которому струился грушевый сок, проговорил:
– Конечно, конечно… Это отличная мысль. Отдых необходим. Вообще мы программу можем изменять. Я думаю даже, что мы не ограничимся только психологией: мы можем читать доклады и по истории литературы, которая безусловно имеет отношение к психологии. Да и социология тоже очень важная наука. Вот, например, Конт, Спенсер. Или Гиддингс. Нужно сказать, многие ученые занимались социологией. И мы вообще не будем стесняться с программой: ведь в сущности, программа для нас, а не мы для программы.
Последние слова Петр Леонидович пробормотал уже не особенно внятно, так как его мало кто слушал из опасения перед тем, что он по привычке начнет перечислять всех мыслителей, интересовавшихся социологией. Беседа за столом разбилась на группы, и одни говорили о театре, другие о пользе популяризации науки, третьи об искусстве вообще, а один преподаватель пропедевтики настолько увлекся своей соседкой, хорошенькой дочкой прокурора окружного суда, что громко говорил ей, заглушая других:
– Вообще я вам должен сознаться, Вера Николаевна, что наше чувственное познание вовсе не дает нам истинного представления о внешнем мире. Вы возьмите вот, например, эту салфетку. Я вижу, что она бела, осязаю ее, чувствую, что она слегка шероховата. Но что такое салфетка an sich[9], как говорят немцы? Я не знаю. И вы не знаете, и никто не знает. Может быть сама салфетка вовсе не белая и не шероховатая, да может быть это само по себе и вовсе не салфетка, а что-нибудь совершенно другое. Вещь в себе непостижима, Вера Николаевна, поверьте мне, как опытному человеку!
Соседка преподавателя испуганно посмотрела на своего собеседника, затем потрогала рукой салфетку и покачала головой. Салфетка была шероховата и совершенно белая, так как ее, очевидно, в первый раз после стирки подали на стол. Вера Николаевна догадалась, что дело крылось здесь не столько в салфетке, сколько в вине, несколько бокалов которого уже успел выпить ее сосед.
Она улыбнулась и заметила:
– Философии я не люблю. По-моему, гораздо лучше заниматься рисованием. Вот вы посмотрели бы, как чудно выходят цветы на черном атласе у Анны Степановны. Один восторг!
III
Коренев вышел из подъезда дома княгини слегка взволнованный. Нина Алексеевна и Никитин шли рядом с ним, и все трое некоторое время молчали. Наконец Никитин заметил:
– Ну, господа, я вас покидаю: мне нужно направо.
Он с веселой хитрой улыбкой поглядел сначала на Коренева, затем на Зорину и стал прощаться.
– Вы еще раз пойдете туда? – брезгливо спросил Коренев Никитина, протягивая ему руку.
– Я? Боже меня сохрани. За кого вы меня принимаете? – Он весело рассмеялся и добавил: – им бы устроить яхт-клуб, а они занимаются психологией. Курьезный народ!
Он поклонился Нине Алексеевне и быстро стал переходить улицу. Коренев некоторое время нерешительно постоял с Зориной на тротуаре и наконец проговорил:
– Вы как… прямо домой думаете идти?
Нина Алексеевна замялась.
– Мне, пожалуй, пора домой, – ответила она, хотя я про братишку выдумала: просто не хотелось оставаться ужинать.
– Кретины, – заметил мрачно Коренев, – и как это я пошел на такое глупейшее заседание? А всё этот психопат Петр Леонидович: он потянул.
– Да, общество довольно странное, – смеясь подтвердила Инна Алексеевна. – Мне особенно курьезным показалось, когда княгиня начала высказывать свою теорию. А затем, полковник… Вы заметили, Николай Андреевич, как он хотел возразить что-то Якову Владимировичу, встал, но только крякнул, звякнул шпорой и сел? Потешный какой!
– Что потешный, – буркнул Коренев, – глуп как пробка, больше ничего. И что это, в самом деле, за психологическое общество? Какие-то офицерские жены, чиновники из суда. Какое отношение мы, серьезные ученые, имеем к этим типам?
Он с достоинством кашлянул, выпрямился и, посмотрев на небо, сказал:
– Ночь очень ясная…Вот, если бы вы, Нина Алексеевна, согласились, – мы бы поехали на берег моря, за город… А? Как вы думаете? А то знаете, настроение такое мерзкое… просто ужас!
Тон его сделался мягче, он как-то просительно смотрел в лицо своей спутницы.
– Отчего же, я с удовольствием, – охотно согласилась Нина Алексеевна, – мне тоже, сознаться по правде, было бы приятно освежиться после заседания.
– Ну, вот и отлично! – воскликнул повеселевшим тоном Коренев. – Мы сейчас возьмем извозчика. Вот там, кажется, стоит один? Ага… Нет… Пройдемте лучше дальше.
Коренев колебался. Недалеко от них стоял крытый экипаж, который стоил почти вдвое дороже простых дрожек. Николай Андреевич пристально вглядывался вдаль улицы, ища глазами дешевого Ваньку.
– Пройдем немного дальше, там будут извозчики, – проговорил Коренев, идя впереди и делая вид, что не замечает стоящего вблизи экипажа. – Сегодня море, наверно, прекрасное, – с воодушевлением добавил он, поворачиваясь к Нине Алексеевне, – в такую погоду можно позволить себе удовольствие прокатиться за город на берег. Неправда ли?
Они повернули за угол. Там стояло подряд несколько простых открытых дрожек.
– За город, на берег… к дачам. Туда и назад, сколько возьмете? – сказал Коренев, подходя со своей дамой к первому извозчику.
– Да что, барин!.. Два рублика дадите, свезу.
Коренев рассердился.
– Что? Два рубля? С ума сошли? Рубль двадцать, не больше.
– Что вы, барин! С барышней едете кататься и торгуетесь еще, – рассмеялся извозчик, – кто вас повезет за рубль двадцать? Да еще ночью. Ну, рубль восемьдесят, крайняя цена.
– Нет, нет. Рубль двадцать пять, – так и быть. Ни копейки больше. И час подождете там.
Извозчик отрицательно мотнул головой.
– Идемте к другому, – обратился Коренев к своей даме, которая молча стояла в стороне. – Он думает, что мы без него не обойдемся. Хо-хо!
Он подошел ко второму, затем к третьему. Только четвертый взялся везти за полтора рубля, и Кореневу пришлось поневоле согласиться, так как Нина Алексеевна уже около десяти минут стояла сзади и молча слушала, как он торговался.
– Ну, пожалуйте, – наконец торжественно пригласил он ее, усаживая на извозчика и садясь рядом с ней. – Только поезжайте хорошенько! – сердито сказал он извозчику, – это такой жульнический народ, – обратился Коренев к Нине Алексеевне, – всегда пользуются случаем накрыть публику.
Она ничего не ответила. Извозчик вез довольно быстро; они обогнули городской сад, проехали мимо театра и стали выезжать за город к дачному месту. Вы часто бывали в этом году в театре, Николай Андреевич? – спросила наконец Нина Алексеевна.
– Нет. Ни разу не был, – слегка смутившись отвечал Коренев.
– Неужели? Ах, какой вы странный! – засмеялась она, с любопытством повернувшись к Николаю Андреевичу лицом. – Разве театр вас не интересует?
– Нет, отчего же. Опера интересует. Я в особенности люблю «Риголетто» и «Травиату».
– Так «Травиату» давали в этом сезоне уже раза три, если не больше.
– Да, кажется. Не знаю, очевидно, настроения не было. Да и знаете, трудно собраться как-то. А кроме того, сознаться откровенно, не люблю я тратить деньги на театр. Лучше уж истратить их на лишние книги, что ли: все – таки книги остаются…
Он заметил улыбку, на ее лице, и сам криво усмехнулся. Нина Алексеевна не сдержалась и начала громко смеяться.
– Вот это прелестно! – воскликнула она, – книги остаются, а театр нет? Но ведь впечатление-то от театра остается у вас? Значит деньги и здесь не пропадают?
– Совершенно верно, но все-таки… Да что вы придираетесь, в самом деле, ко мне? – начал вдруг, переменив тон, отшучиваться Коренев. – Вы еще подумаете, что я скуп, что ли! Лучше давайте любоваться природой. Вот, видите, дачки стоят. И деревья.
– А вот, забор, – ответила иронически Нина Алексеевна.
– А вот лавка, – подхватил шутливо Коренев.
– А вот ворота. А вот… – она на мгновение замолкла и посмотрела на небо. – А вот, скажите-ка: это какая звезда?
– Это Альдебаран.
– Какой красный! И, видите, вокруг него, точно треугольником, мелкие звездочки.
– Это Гиады, – не смотря наверх, произнес Коренев.
– Гиады? – переспросила Нина Алексеевна, обводя взглядом звездное небо. – А вот, смотрите наверху: желтоватая звездочка. Прелестная. Что это?
Он покосился наверх и поспешно заметил:
– Там должна быть Капелла. Из созвездия Возничего. Смотрите, вы еще упадете! – вдруг добавил он, встревожившись, видя, как его спутница откинула голову назад. – Ведь сзади-то спинки нет.
– Ничего, не упаду.
Он с беспокойством продолжал смотреть на нее. Ему хотелось бы предложить поддержать ее за талию, но он никак не мог решиться: это так трудно сказать, а между тем, было бы так приятно… Проклятая робость!
– Вот смотрите, что там… – стала еще более откидывать назад голову Нина Алексеевна, – там очень красиво: видите четыре звезды, а затем…
– Нина Алексеевна! – пугливо воскликнул Коренев, – что вы делаете?
– А что?
– Ах, Господи! Да ведь так вы опрокинетесь, вот еще какая. Может быть вам…
Он внезапно смолк, смутившись.
– Что мне?
– Может быть вам… гм… вам неудобно? – вдруг неожиданно для себя сказал Николай Андреевич.
– Неудобно? Ха-ха-ха! Вот комик, спрашивает. Конечно, не особенно удобно.
Она, улыбаясь, продолжала рассматривать небо.
– Ах, какая вы неосторожная. Хотите, может быть…
Он опять остановился.
– Да что такое? Что хочу?
– А вот… может быть вы… будете держаться… за козлы? – надорванным голосом вдруг окончил Коренев.
– Нет, я уже устала, – сухо ответила Нина Алексеевна, садясь прямо и поправляя съехавшую назад шляпку, – благодарю вас. Ну, мы, кажется, скоро приедем? Сейчас, как мне помнится, будет поворот к берегу?
– Да, сейчас. А здесь уже почему-то и фонарей нет, – задумчиво добавил Коренев.
– Да, уже нет. Как хорошо! Теперь небо кажется чернее, и млечный путь гораздо ярче вырисовывается: смотрите.
Она показала направо. Он между тем устремил взгляд вперед на темневший берег и тревожно думал о бывших при нем золотых часах, про которые совершенно забыл, когда предлагал своей спутнице катанье к морю. Но делать было нечего. Извозчик подъехал к площадке, спускавшейся к берегу, и на этой площадке уже вырисовывалось большим черным силуэтом здание загородного летнего ресторана. Там сейчас было совсем темно и пусто, так как уже наступали средние числа октября.
Впереди шумело море. Оно протянулось темной полосой к белесоватому горизонту, подернутому легкой дымкой тумана. И черный дрожащий звездами купол неба падал неясно здесь вниз, расплываясь в мутных бледнеющих очертаниях. Вблизи, у холмистого берега, сердито ворчали, копошась у камней, белеющие волны; они набегали на ряд темных низких утесов, выступавших за пределы прибоя, разбивались об них, как бы вспыхивая белою пеной, и с недовольным журчанием, потеряв главный путь, в тревоге разбегались в мелких водоворотах в разные стороны. И беспрерывно новые волны, пришедшие издалека, сменяли разбившиеся так неожиданно и так бесцельно первые ряды. А среди подводных камней, запутавшись в водорослях, бились в тревоге кипевшие воды; то огибая утесы, то с шумом пробиваясь в узкие щели, – беспорядочно и торопливо бежали они; и здесь, за утесами не вздымались уже мохнатые гребни горделивых валов; не дрожали прибрежные камни от тяжелых ударов; – со злобным шипением, с затаенным ропотом плескалось здесь море, униженное, разбитое, обессиленное.
– Ого, тут обрыв, – тревожно заметил Коренев, вглядываясь в тропинку, ведущую по откосу к самому берегу. – Не лучше ли нам остаться наверху? А?
Нина Алексеевна быстро прошла мимо вперед.
– Нет, что вы! – воскликнула она с удивлением. – Здесь неинтересно, идем к самым волнам.
Коренев осторожно последовал за ней. На лбу у него появилась недовольная складка. – Зачем тащиться вниз? – думал он, переступая с ноги на ногу, и оглядываясь по сторонам. – Здесь такое глухое место, а извозчик так далеко остался за поворотом. Еще ограбят, чего доброго…
Он нащупал в кармане своего жилета часы и нехотя продолжал спускаться. Нина Алексеевна, между тем, уже давно была на самом берегу и пробовала стать на обломок утеса, упиравшийся в воду. Однако, камень шатался, и Нине Алексеевне в конце концов пришлось перебраться на соседнюю скалу.
– Куда вы полезли? – тревожно проговорил Коренев, с унынием глядя на свою спутницу. – Давайте сядем здесь внизу.
– Идите, сюда! – весело крикнула в ответ Нина Алексеевна. – Здесь так хорошо!
– Упадете, тогда будете знать, как хорошо, – бормотал Николай Андреевич, неуклюже пробираясь вперед между камнями, – еще поскользнешься здесь, чего доброго, в темноте, тогда будет история. И грязь какая… Нина Алексеевна! Куда это вы залезли, ей-Богу! – жалобно воскликнул наконец он.
– Ничего, ничего, полезайте вы тоже, – со смехом утешала сверху Коренева Нина Алексеевна, сидя на краю спускавшейся в воду скалы. – Ну, будьте молодцом… Ха-ха-ха! Ну? Влезли? Слава Богу, наконец.
Коренев недовольно вертелся на скале, с тревогой поглядывая на край камня, под которым плескались мелкие волны; ему не хотелось садиться, чтобы не запачкать пальто; но делать было нечего: он выбрал место подальше от края и сел.
– Ух! – произнес он. – Ну и темень! Ничего не разберешь по дороге. Сели бы мы там, наверху, гораздо лучше было бы, право.
Он посмотрел назад на возвышавшийся откос, по которому только что спускался, и снова вздохнул. И что, в самом деле, за странное желание у этой девушки лазить на серые грязные камни, на которые летят снизу брызги волн и пачкают башмаки?
Однако, посидев немного и поглядев молча вокруг, Коренев постепенно пришел в спокойное состояние духа. – В конце концов здесь уж не так плохо, – думал он; – море довольно эффектно бурлит внизу, рядом сидит она, девушка, в которую он давно влюблен и на которой подумывает даже жениться, если только получит от факультета поручение читать платный курс. Здесь даже очень поэтично, на этих камнях: пожалуй, будь он посмелее, то объяснился бы ей сейчас в любви: это такой подходящий момент.
Тем более, что ездить сюда часто по вечерам неудобно, да и довольно дорого, если платить по рубль пятьдесят каждый раз этим алчным извозчикам. Но как объясниться? Что в таких случаях делают?
Он стал вспоминать литературные примеры, которые встречал еще в гимназические годы, когда беллетристика привлекала его внимание. Вот, кажется, есть очень красивое объяснение в «Анне Карениной»: Левин пишет начальные буквы перед Китти… Но для этого, ведь, нужен карточный стол и мел, а здесь эта скала, на которой так больно сидеть, очень мало напоминает карточный стол. Затем, у Тургенева, кажется, есть объяснение на лоне природы. В «Накануне» или в «Вешних водах»…
Коренев напрягал свою память, чтобы вспомнить соответственные места, но не мог: то ему приходила на ум беседка, то какая-то поездка в грозу по лесу, где влюбленным приходится скрываться в развалинах монастыря, что ли… Ах, как это всё трудно и ужасно в конце концов!
Коренев тяжело вздохнул и покосился на свою соседку. Та молча смотрела перед собой на море и бросала вниз куски глины, отрывая их возле себя от скалы. Она услышала его вздох и, добродушно улыбнувшись, спросила:
– Чего вздыхаете?
– Так… – ответил он, стараясь сделать свой ответ многозначительнее. – Так себе.
– Это не ответ, – заметила весело она, – что значит это «так себе»?
– Это значит, что так, а не этак… хо-хо! – деланно засмеялся он, сразу же умолкнув: он ясно почувствовал, каким глупым должен показаться ей его ответ. Нет, нужно действовать иначе. Раз он не может победить ее живым остроумным разговором, то нужно хотя бы приналечь на свою специальность, или вообще на что-нибудь научное: ведь, здесь он будет чувствовать себя гораздо свободнее. Ведь он, преподавая в женской гимназии, воодушевляется иногда в восьмом классе, когда рассказывает, например, об изменениях тангенса с возрастанием угла от нуля до 90 градусов. Нужно показать ей в самом деле, что он вовсе не сухой математик, а молодой ученый, обладающий глубокой поэтической натурой, способной к смелым полетам фантазии. Вот, например, следовало бы ей рассказать о теории запечатления осязательных ощущений, теории, которую давно когда-то развивал перед ним один коллега по факультету и которую с успехом можно было выдать за только что пришедшую в голову мысль. Коренев откашлялся и проговорил:
– Вы знаете, Нина Алексеевна… Сегодняшнее заседание, на котором присутствовавшие говорили столько чепухи о переселении душ, навело меня на одну интересную мысль. Мне кажется, что я буду прав, если скажу, что человечество в своих культурных и технических завоеваниях идет не в чему иному, как к осуществлению личного бессмертия.
– То есть как это? – с интересом спросила Зорина, поворачиваясь к Кореневу и перестав бросать в море куски глины, – я вас не совсем понимаю, Николай Андреевич.
Он самодовольно улыбнулся и продолжал:
– А, вот, сейчас я вам разовью свою мысль подробно. Видите ли, обыкновенно считают, что народ или личность становятся бессмертными в своих культурных остатках, в том, что они оставляют ценного после себя: в памятниках искусства, науки, техники. Но мне не приходилось нигде встречать той мысли, что наша техника сама как будто стремится к способам осуществления личного бессмертия человека. Ведь все литературные, художественные памятники – они все запечатлевают только творческий дух творца, они говорят нам или о настроении автора, или о его душевном складе, его даровании. Но телесная личность великих людей для нас обыкновенно считается исчезающей. Между тем, я думаю, что исторический процесс техники стремится именно к осуществлению этого физического бессмертия человека; проследите вкратце историю культуры: сначала мы имеем живопись; она неточно, но все-таки, хотя в одной плоскости сохраняет нам лицо или фигуру какого-нибудь исторического лица. Вместе с живописью появляется скульптура. Она дает нам изображение уже в трех измерениях, дает пространственный, но все-таки очень несовершенный образ. Далее, с развитием техники появляются уже новые способы запечатлевать физическую сторону человека: мы изобретаем фотографию, которая передает уже точно плоскостное изображение желаемого лица, но без отношения во времени. Открытие стереоскопа увеличивает ценность этого точного фотографирования путем введения в точной форме третьего измерения в наши восприятия. Но до сих пор мы все-таки имели неподвижные тела: там отсутствовал элемент времени, так как отсутствовало движение. Но вот открывается стробоскоп, а затем в более усовершенствованной форме, кинематографический способ воспроизведения движения. Таким образом, круг сохранения наших восприятий для истории расширился. Мы не только можем видеть исторических лиц, но можем видеть их движения: какая-нибудь кинематографическая демонстрация движений Толстого, что ли, через несколько веков будет с трепетом восприниматься нашими потомками, так как здесь мы чувствуем мистическое значение великих завоеваний науки. Представьте себе, в самом деле, что мы имели бы кинематографическую ленту, которая изображала бы Аристотеля, что ли, гуляющего со своими учениками по саду Лицея и преподающего им философию? Или если бы мы видели Сократа, ходящего по площадям Афин… Разве мы не трепетали бы, видя это, от мистического удивления? Но кроме синематографа мы имеем еще фонограф, который запечатлевает и делает бессмертными звуковые впечатления, сохраняет голос исторического лица. Вот уже звуковое бессмертие, которое в соединении со зрительным, кинематографическим, дает бессмертие двум главным впечатлениям: зрительному и слуховому. В настоящее время вопрос о точном совершенном соединении фонографа и кинематографа – является вопросом почти решенным, и мы скоро будем иметь возможность запечатлевать навеки внешний плоскостной вид человека, его движения, его голос, его смех. Но теперь можно пойти далее: можно спросить себя: нельзя ли осуществить технически полного бессмертия, то есть, нельзя ли запечатлеть все восприятия в их комплексе целиком, в неразрывном сплетении? Если технически мы будем в состоянии сохранить не только зрительные и слуховые восприятия, но и восприятия осязательные, температурные, обонятельные, – то не будет ли здесь осуществлено бессмертие, не в форме сохранения самого живого индивидуума, а в форме воспроизведения всей суммы восприятий, которые мы можем получить от этого лица? Представьте, что технически, путем воспроизведения молекулярных колебаний, мы получим нечто аналогичное живому телу. Предположите, что у нас есть приборы, благодаря которым мы можем снять не проекцию человека, а всё его тело со всеми его пространственными свойствами: предположите, например, что живой человек прошелся раз по комнате, проделал что-нибудь, какие-нибудь движения, сказал что-нибудь. А аппарат снял его во время этих движений таким образом, что, будучи приведен снова в движение, этот аппарат снова воспроизведет того же человека ходящим по комнате с его телом и всей его массой. Это кажется на первый взгляд невозможным; но ведь древним грекам тоже показалось бы невозможным получить на экране движения живых, знакомых им лиц!