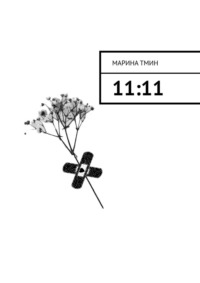Полная версия
Привет, дорогой дневник, я из России

Привет, дорогой дневник, я из России
Марина Тмин
Обложка Марина Валерьевна Шалаева
© Марина Тмин, 2024
ISBN 978-5-0062-9843-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ттт
1
человек навсегда остаётся светом, убийцы – тьмой.
пепел падает с сигареты, не до смеха. прострация.
когда вот так – был, и не стало,
а был же —
свой —
кажется, что не вынесешь.
но
нужно держаться.
держаться. что остаётся нам, далеким от космоса?
злость, опасная, точно пороховая бочка.
не тронь – рванет. жёлчь копится, копится, копится.
виноватого – в камеру-одиночку,
из сизо в шизо.
от «живого» до «жмурика» – тромб.
за четыре минуты новости разносятся по планете.
в голове взрываются сотни бомб.
и больше нет ни надежды, ни веры, ни даже света.
пришили оторванное, упаковали, переложили ватой,
огнеупорный человек в коробке из огнеупорной стали —
рассекает космос межгалактический шаттл…
полёт нормальный.
2
это нежное. так хочется думать. это вечное.
выбравшись из постели, дёргаешься под музыку.
лампочка с ослепительной мимолетностью разгоняет нечисть,
живущую в голове. неподъёмный груз твой.
снежинки вертятся. а тебе-то – что? закипает чайник,
в утренней суматохе выделываются камасутрой
заряжающие движения. зарядка, товарищ начальник —
неотъемлемая часть удачного утра.
вера, надежда и честь, гражданин начальник —
вот и всё, если не считать слабоумия и отваги,
что имеется за осунувшимися плечами,
украшенными погонами из бумаги.
некрепкий кофе, скорее даже вода – для некрепких нервов,
кривляешься, а за окном – метель бушует. вьюга.
ночь нежна, и она останется первой
ночью, когда круговая порука замкнётся в круг, а
дальше – тысячи тысяч таких же утр, изувеченных
снегом белым и кровью алой,
в бесконечной битве с бессмертной нечистью,
что мешает первыми добежать к финалу,
ленточку перегрызть… но пусть.
это всё – потом,
день только зародился, плывет бумажный
кораблик, и мы для него – глупые человечки, барахтающиеся за бортом.
ждём, что нам господин начальник теперь прикажет.
это вечное. так не хочется думать. ни о чем не хочется.
прыгаешь из утра вниз головой, расправляешь крылья.
выплывать, затерявшись в метели бессонного одиночества,
до скончания дней тебе, обломку космической пыли.
с кем говорить теперь отчаянно откровенно,
к каким вещам обращаться на вы и кому доверить
мысли,
журчащие в застоялых венах,
мысли, вылупившиеся едва, ещё не стеснённые перьями,
ещё не зажатые ни пальцами, ни щипцами,
без удушливых рук, сжимающих мертвой хваткой
горло, пока ты крутишься перед зеркалом, мнишь, что царь,
но по улицам пробираешься бдительно и с оглядкой?
даже в кино идёшь, садишься в такси с опаской,
перчатки стаскиваешь с пальцев, косясь налево;
новые строки щеки воспламеняют пунцовой краской,
пешки – с поля.
свободно ходит только белая королева.
ешь свой суп, и за то уже будь ему благодарен,
что стекает густой струей и теплится в пищеводе,
по сравнению с ним ты жалок, нелеп, бездарен,
тьма сгущается, овощи оживают и хороводят.
стулья – кривые призраки нотных грамот,
подкашивают колени. присядь, тебе не нужны проблемы,
и те, кого давно уже нет, скалятся с сотен рамок,
которыми украшал в порыве глухие пустые стены,
а теперь они смотрят из-под стекла на тебя с укором,
рюмки громыхают, трясущимися руками
разливаешь пойло – забыться, мысли гремят, как скорый,
петляющий по железным рельсам
под облаками.
никому не расскажешь. молчи, и, желательно, будь доволен.
таи возвышенное, сокровенное, не доверяй ни тумбе,
ни полкам, ни кактусу, ни даже вешалке в коридоре,
ни полу, что не ощущал ни вальс, ни фокстрот, ни румбу.
вздрагивай от резких звуков, покинув спальню,
рукописи сжигай, не занеся над ними карандаша.
опасность нынче воспринимается буквально.
и буквально – воздуха не осталось – нечем теперь дышать.
3
хлебом не корми – фуагра корми,
воспитай собак, как волков.
возводи алтарь, освящай альков,
высекай любовь на себе плетьми.
веру высекай и патриотизм,
пой народный гимн, воспевай страну;
что лежит в крови, что идёт ко дну.
прямо в сердце – плеть, прямо в сердце – хлыст.
воспитай в себе патриота дух,
стиснув зубы – вой, жмурь глаза и жуй.
ананасов гниль запивай, буржуй,
обращайся в слух.
слушай этот бред. на тебя расчёт.
любит тот, кто бьет,
кормит требухой, говоря, что мёд,
а ты рад, и просишь: мне ещё, ещё.
с радостью дают. волчьи зубы – клац,
клык на части рвёт.
отступать нельзя. путь один – вперёд.
вот тебе вино и противогаз.
месяц измеряется выпитым и прочитанным.
всё вокруг – возвышенно и пространно.
чувствуешь живым себя редко, и исключительно
в тёплых, солнечных странах.
мир – площадка для самопознания,
прогулок и разговоров,
игровое пространство для повзрослевшего заводилы.
существование соткано из ноутбука, матраса и коридора,
преодоление расстояний – результат усилий,
приложенных человеком с какой-то целью.
цель, как известно, оправдывает все средства.
и даже вытаскивание самого себя из постели —
досадное неудобство, ведущее к перемене места,
суммы слагаемых важных жизненных элементов.
(список становится день ото дня короче).
с треском прокручивается старая кинолента,
отмеряя время количеством многоточий,
а они – повсюду. живое обрывают на полуслове.
виснут паузы, в голове – ни единой мысли.
вытолкай хронос. танцуй абсолютно голым;
пей и читай. больше ничего от тебя не зависит.
обзорная точка с видом на море и чайник.
узкая площадка, на которой стол с половинкой стула.
в старую бутылку из-под вина воткнута толстая свеча,
отгороженная от сквозняков – как бы её не сдуло.
как бы меня не сдуло порывом ветра, что рвётся с юга,
влетает в комнату, шарится в ящиках по-хозяйски.
а в море – кто? рыба-меч, осьминог, белуга,
и туристы, радующиеся, что прогрелось, пусть мало-мальски.
с визгами бросаются на водную амбразуру,
наблюдаешь и завидуешь счастью, пузырящемуся, кружевному.
сам себя утопил, даже не приближаясь к морской лазури.
если бы можно было начать по новой…
можно?
4
мы теперь выходим из дома только по одному,
вечно поддатые, на мели, горластые и упрямые,
волны накатывают барашками, и назад – во тьму,
море становится с каждым годом все ближе к храму
по силе душевного очищения, перерождений и откровений,
исповедуешься перед синевой, и всё тебе отпускают.
солёная вода вместо крови струится теперь по венам,
и пена даже в имени, не говоря о душе – морская.
только искренности и свежести на дне – крупицы,
утонул. и не можешь сам себя вытащить из болота.
чайки смеются над серьёзным тобой, ту-пи-ца! тупица!
жертвами своими порадовал хоть кого-то?
никто не рад. море в ослепительном блеске тонет.
разглядываешь его из бункера, находясь в отдалении.
но сердце улавливает тонкие колебания камертона.
и в радостном предвкушении опускаешься на колени.
прости нас море, прости, что мы простоту забыли,
растратились в пустяки, заблудились, ушли в рутину.
море прощает. оболочка трескается, желание восстаёт из пепла и пыли.
и бежишь, оголтелый, волне навстречу, стряхивая паутину.
5
не говори правды, за правду сядешь,
будешь сидеть, землю рыть, над землей лить слезы,
станешь удобрением – чудовищно милый садик,
но что в нем? навоз и розы. не говори, когда нетверезый,
не говори, когда в здравом уме или в светлой памяти,
не заноси над собой ножей, не вяжи петлю,
не устраивай митингов, мелодрам и драмеди.
проорись в чистом поле, бахни таблеточку терафлю.
не выпиливай себе гроб, не рой могилу.
правды не говори, вообще помалкивай в пустоту.
вылечи горло, вылечи голову. и с дохлой своей кобылой
в тишине сиди, шахматы разложи. время – под хвост коту
не мети.
поучись уму-разуму. правда – вымысел.
правда – выгода. у кого сила, тот знает истину.
не говори ничего, все равно тебя вычислят,
вытащат за ноги из постели, одеяло с тебя стянув.
уведут допрашивать глупого, несогласного.
кого поддерживаешь? откуда идеи? тебе-то какое дело?
замолчи, и будет все у тебя прекрасно.
так оппозиция пискнула и сгорела.
тихо!
что-то новое зарождается.
кто-нибудь примет роды?
нового не хотим. новое выбили, точно зубы, закройте гнилые рты.
время молчания. то, что было опиумом для народа,
стало бледным призраком по-настоящему торкающей наркоты.
6
да хранит тебя боже, святая Русь,
не реви, не отчаивайся, не трусь,
я когда-нибудь бомбой в тебе взорвусь,
и на обрывках наших напишут новые, лучшие строки.
я за тебя волнуюсь, я за тебя боюсь,
как море-волнуется-раз, как восхождения на Эльбрус,
ты – непомерная сила, ты – неподъёмный груз,
и каждый ребёнок твой, грустный и одинокий
заносит меч над собой – харакири,
вносит выплаты по кредиту – в своей квартире
спрятаться и не слышать о том, что творится в мире —
проще простого. как это просто! ты можешь вообразить?
имя твоё звенит ключами в пустом кармане,
имя твоё перекрыто чужими кровавыми именами,
в тебе рождены. перестать быть нами —
так же горько, как и желанно.
связала нить
по рукам и ногам. разорвать бы путы,
забреду к тебе, я небритый, усталый путник,
припаду к тебе. слышишь – нас отстукивают минуты,
нам так мало осталось. давай навсегда простимся.
да хранит тебя, как говорится, пусть всяк, кто может.
сохрани мою тень, мой портрет, мою речь. да не множь их,
людоедов, тиранов, господ.
думаю о тебе – и мороз по коже.
до свидания, говорю. и во тьме утопает безграничность, столица, провинции…
7
нам всем придётся лезть наверх по этому глубокому тоннелю,
карабкаясь по голым стенам, в кровь сшибая пальцы,
и повторять, как мантру, день за днём, неделю за неделей:
на дне бы не остаться. только б не остаться.
мы сами рыли яму. вот ключи, вот экскаватор,
потом борьба. ну да, любезный пасквиль.
гогочет добродушный узурпатор
и жмёт, и жмёт плоды осиротевшей
паствы.
я не творил, мне затыкали рот, в стихах перебивался
с больного на больное. вверх – на фашисткой мине
взмывали строки эмигранта, попаданца,
вливались в бурные потоки молниеносных линий,
молниеносных букв
с оттенком действенных причастий.
какая троица!
свобода, смерть и тюрьмы
за что боролись, то и получили. это – счастье?
бычком дымится тело, наспех сброшенное в урну.
в складской инфраструктуре нечему сгущаться,
нас свалят, чтоб не растеклись
гудком по проводам,
шатались бледные, озябшие предметы в диком танце.
и вояжер сигналил нам, сигналил нам, сигналил нам.
с утра наешься сигаретным дымом.
нам всем придётся лезть, кто виноват, кто прав.
несчастием сплоченные, мы – горе-побратимы,
но проведи нас
сквозь тьму туда, где свет.
где гомон птиц и тихий шелест трав.
8
отбиваются чарльстончики на ограниченном квадрате паркета.
мир открыт со всех четырёх сторон.
закрывают глаза, чтобы не видеть света,
считают деньги, минуты, любовников и ворон.
а тогда старик-географ с лицом скитальца
с картой мира ураганом влетал. какие там были карты!
каким огромным казался мир,
расплескался, но так и остался – разложенным на поверхности школьной парты.
пляшут теперь под звуки дудок, виолончелей.
в небо звёздное хотелось ворваться с разведкой.
воображая себя космонавтами, визжали, когда взмывали качели,
мечтали: уедем, уедем, что это будет за кругосветка.
что там будут за перевалы и перекрёстки,
сплошной экстаз, головокружительные вершины,
выросли и осознали: не вышли ростом,
не добились стабильности и дохода. спутали следствия и причины.
зал наполняется музыкой, скрип паркета и тесность туфель,
а кругом – только впитывай и глотай – карусель событий;
зал охраняется суровым сторожем – пуфиком,
но минуйте его, перехитрите.
да посмотрите же вы вокруг, посмотрите!
возгласы и призывы минуют, смешат, щекочут,
равнодушные отмахиваются. оставьте, все это пошло.
если бы можно было иначе, мы бы жили иначе.
но забудьте, отдайтесь магии ночи.
маленькие естествоиспытатели, путешественники, глядят из прошлого.
и горько плачут.
9
время больше не эфемерно – болит, не трогай.
можно пощупать – не значит, что нужно щупать.
надвигающаяся весна не облегчает, но скручивает бараньим рогом.
склоняешься над задачей, состоящей из пирога и супа.
наблюдаешь, как по стене распускается чёрная плесень;
время измеряется новыми плесневелыми отростками.
февраль превращается в первый весенний месяц,
и дышать становится не легко, но подозрительно просто.
кислород насыщает мозг, эндорфином бежит по венам.
грубая прямоугольность шероховатых стен
заставляет угрюмо пялиться в потолок, ненавидя стены,
ненавидя систему, утверждавшую, что она – либеральнейшая из систем.
и думать:
если переиграть? отозвать ходы, время перевернуть?
пожертвовать, например, слоном, в попытке пресечь бесконечный шах?
голову наполняет густая, едва различимая муть.
время спрыгивает на стол, и стрелки нелепо топорщатся на часах.
время больше не эфемерно. вот кровь и плоть.
садится напротив тебя, фигуры со знанием расставляет.
подкуривает и отсчитывает: «королева – четыре, пешка – год».
не на жизнь, а на смерть, не на смех, на годы твои…
играем?
вдали от дома человек человеку – брат,
каждый встречный – иное, но всё же – родное племя.
подымается грудь, как если бы был домкрат.
очень искренне: рад. я сердечно рад,
что столкнулись именно в это время.
время…
свой, чужой, дилетант, дезертир, предатель…
можно выдохнуть, взять «казбеги», экмек, перно.
над водой всех рек всего мира ногой болтать,
была бы такая профессия – ногоболтатель,
я бы работал без передышек, без всяких «но».
я бы человека разглядывал без конца.
слушал бы, как он без устали говорит о том, о сем.
может, через годы не вспомним черты лица,
но
мы друг другу оставим зарубинки на сердцах.
просто так.
даже если никого этим не спасём.
эскиз
это же можно все коротко и хлестко,
в двух словах набросать простой эскиз,
сбросить до заводских настроек, хвостик
кометы подоткнуть одеялом, под которым мордой вниз —
святая троица сливается в индивид,
человечишко становится расс-трое-н,
человечишко: «хочу – человечищем», говорит.
под роялем шалаш построил.
раскраивается и утраивается сознание, попеременно
утрачивается способность к аминю и на авось.
желание выкрикивается в ушную раковину вселенной —
чтобы наверняка сбылось.
если допустить,
что
пребывание в этом измерении окажется безальтернативным,
нам придётся справиться с несварением,
вызванным перебродившим пивом,
нам придётся самим покупать гвозди,
которыми – самим же – другим, что ли, делать нечего —
пристукивать себя к кресту, розы,
полынь, звезды, фонарь, кузнечики.
сколько там болтаться? сколько трясти головой,
не давая ей грохнуться, как когда засыпал в маршрутке
по дороге домой,
через перелески и вёрсты, через «смешно и жутко»
шёл, отравленный университетскими знаниями,
не спавший сороковые сутки, став инвалидом,
не сумев переварить столовское хрючево,
сам себя – по методу камбоджийского геноцида —
в землю живьём,
за неименьем лучшего.
как проходят дни
день проходит примерно так: утром – кофе,
пролистывание журналов, переведённых в формат электронный.
мне, конечно, нравилось больше, когда было пофиг,
потому что по телевизору показывали Джимми Нейтрона.
когда можно было тупить над тарелкой овсяной каши,
не беспокоясь о приближающемся дне расплаты
(сейчас представилось красочно: дерёмся, руками машем),
но это просто деньги за проживание в съёмной хате.
а раньше ведь не было подобных необходимостей.
жил себе, помешивая чай в стакане, верил:
тетечка, которая на экране, ведущая новостей,
прячет за спину крылья ангельские, перья.
раньше выходил во двор и не думал: сука, ну экология же!
зачем вы бросаете бутылки и фантики?
а девочка, живущая на третьем этаже,
казалась богиней, нимфой, в нарядном платье.
сейчас – узнавание новостей в приоритете,
красивых картинок лихорадочное перелистывание.
на дверной ручке – пакет, а в пакете ещё пакеты,
голова забита подсчетами – сколько заплатят чистыми.
гуси превратились в зарплатные отчисления —
один серый, другой белый, со всех – налоги.
за неумение жить моментом начисляют пени,
повышают процент за неспособность довольствоваться немногим.
женщины сильные
что подразумевается под моей физической слабостью?
что вы вкладываете в понятие силы?
утро отдаётся в теле приятной сладостью,
разливается и выписывается курсивом.
пишется что-то, упрощенное неприлично,
общеизвестное, как жи-ши, или же – дважды два.
щеки делаются цвета кирпичного,
трава по пояс, трава, как водится, мурава.
лодка по морю, лодкою правит женщина,
слабой женщине, да ещё и с пустыми ведрами,
нечего делать на корабле, кыш, деревенщина,
нечего раскачивать лодку своими бёдрами.
но в чем она, эта слабость? в привязанностях,
в умении откликаться на чужие раны?
может, за борт сигануть будет приказано,
может, обслужить на уровне капитана.
и с этим грузом, с этим багажом неподъёмным,
с мужем-алкашом и с дитем-инвалидом
в двадцатиквадратной квартире съёмной,
вы бы себя, спрашивается, вывернуть так смогли бы?
чтобы сплошные губы, чтобы краска будня,
ноктюрны на водосточных трубах и улыбаться.
объясняйте про слабость, я этот бред принимать не буду.
женщины сильные, а все прочее – профанация.
здесь – это где?
не робей, здесь не любят робких,
не молись, здесь не терпят набожных,
требования вылетают как шампанского пробки
на людьми запруженных набережных.
ты не вздумай врать, у нас здесь не врут,
не крестись, у нас так не принято.
с головой ныряй, точно рыба в пруд,
сорняком тебя вырвут, да пылью выметут.
не грусти, здесь для грустных – ад,
нос не вешай, нет у нас здесь крючков,
не смотри туда, нет пути назад.
не прикидывайся дурачком.
здесь раскусят враз, с потрохами суть,
здесь линейкой по пальцам – бам.
приходи скорей, тебя все здесь ждут,
оставайся с нами, покоряйся нам.
о равенстве
напиши, говорят, какой-нибудь стих о равенстве,
слышу это и чувствую – внутренний голос стих.
мы не верим в идеи схожести, баранами упираемся,
упорно и педантично предпочитаем не видеть их.
ну, родился ты в прошлом столетии, ты от этого лучше?
выше, сильнее, быстрее тех, кто из нулевых?
исключительность и гениальность – это особый случай,
это не про женщин или мужчин, не про старых и молодых.
это про смелость вместо вопросов о цвете кожи,
это умение не заглядывать в спальню и не учить.
мы в двадцать первом веке все ещё глупость множим,
если тебе не нравится, посмотри, пожалуйста, и смолчи.
да не делай ты выводов преждевременно,
если это тебя не касается, палкой не шевели.
нетронутое говно не воняет, в отличие от мнения
«самого умного» жителя Земли.
это день такой
это просто день такой, это такой период.
хлебом меня не кормите (я не люблю хлеб),
дайте сделать ошибочный вывод!
и отстаивать своё мнение, вгрызаясь, точно лев.
это же не мы такие, это жизнь
несуразная,
как сложный уровень в тетрисе – не складывается, как нужно.
субмаринами проплываем, выныриваем водолазами,
все, что надумали, тащим со дна наружу.
жизнь напоказ, вывернутость изнанок,
смотрите, мол, мы несчастные, уязвимые.
в составлении списка литературы, в корректуре гранок,
запутались, видим —
жизнь проходит мимо.
и давай догонять ее, куртка распахнута,
как до этого душа была – два бесполезных подвыверта.
сиганули через десяток лет одним махом,
но слово умерло и застыло у сведённого судорогой рта.
экономика благодарности
экономика благодарности перелилась через край,
от извечного «око за око» и «глаз за глаз»
вот два стула, говорят, теперь выбирай —
есть электрический, у него есть несколько фаз.
вот, говорят, получите и распишитесь:
вам повесточка, приходите в четыре тридцать.
совершенно незачем нервничать, чего боитесь?
разве мы позволим вам развалиться?
мы вас скотчем примотаем и склеим,
чтобы не разлетелись на палочки и на черточки,
знаете, мы всех, оказавшихся здесь, лелеем,
холодно – топим, жарко – откроем форточку.
жестко сидеть на стуле – возьмите мокрую губку,
подложите под ваше мягкое место.
бегать от нас, скрываться, было чертовски глупо,
контрпродуктивно и, в общем-то, бесполезно.
это же все сформировано на дружеских основаниях,
мы знали кого-то, кто до вас помог дотянуться,
слышали про принцип связи? жаль, не приняли во внимание,
теория шести рукопожатий кого угодно преподнесёт на блюдце.
выбрали? ну что же, садитесь, поговорим,
только не слишком долго, у нас здесь живая очередь.
– вас немножечко потрясёт, готовьтесь, на цифре «три»,
вы расстроены?
– вроде нет, скорее – рассредоточен.
говорит Москва
Мам, у нас есть еда?
Да.
Мы можем поесть всегда?
Да.
Мы должны быть счастливы, нет?
Нет.
Мам, но у нас есть свет?
Есть.
И дырок в стене нет?
Нет.
К нам может прийти сосед?
Придёт.
Он мне что-нибудь принесёт?
Может быть, самолёт.
Мам, а есть у меня отец?
Есть.
А у него есть тесть?
Есть.
А у него усы?
Густы.
А кто на него похож?
Ты.
А у Сережки кот?
Два.
А на шее у него что?
Голова.
Значит, он человек?
Едва.
Но он ещё подрастёт?
Будет голодный рот.
А у нас с тобой есть вода?
Да.
Мам, а зачем я рождён?
Может, чтоб строить дом.
А у нас с тобой есть дом?
Ты же сейчас в нем.
Мам, на деревьях зелень.
Мам, а на небе солнце,
а под ногами – хлеба
крошки, их кинули из оконца.
Есть у людей хлеб, мам?
Есть у людей кров, мам?
Есть, где укрыться нам?
Бога ищут внутри, не идя в храм.
Мам, что такое бог?
он разве не одинок?
разве не претит ему
так долго быть одному?
мы составим ему компанию?
Может, запустим в плаванье
кораблик бумажный и быстрый —
В ручей журчащий и чистый?
Мам, сколько мне лет?
Сто два.
Мам, а я в жизни кто?
Лишь из окошка вид.
Кто говорит? Москва.
А с кем она говорит?
ещё хоть разок
нас сносили как драйвера,
нас сносили как сапоги,
нас сносили носками, смотри: дыра
на безымянном пальце левой ноги.
нас выносили головой вперёд,