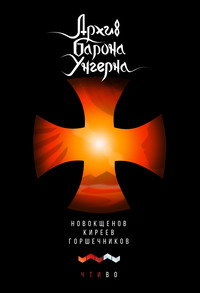Полная версия
Пляска смерти председателя Томского

Олег Новокщёнов, Александр Киреев, Дмитрий Горшечников
Пляска смерти председателя Томского
Пролог

Высокий худой человек в серой хламиде, склонившись над древним камнем, что-то шептал. Кругом стояли люди в плащах, до них долетали отдельные его слова: ‘Sangius Christi… inebria me… exaudi me… ab hoste maligno defende me… in hora mortis… et iube me…’[1] Их окутывала серебристая дымка: из-под бесконечно высокого купола свет спускался вниз и струился слоями, создавая ощущение едва заметного колебания овеществлённого флюида. Человек шевелил губами, время от времени касаясь резной каменной тумбы и возлагая на неё чёрный крест. Внезапно раздался грохот: отворилась тяжёлая дверь между аркадами, и в храм стремительно вошёл седой старец, сопровождаемый полудюжиной монахов.
– Оставь это, Мейнард! – прогремел он. – Ковчег проклят, ты знаешь. Он несёт погибель и бесчестие. Большинство братии против. Ты не можешь… – человек в сером вскинул руку – старец рухнул как подкошенный и захрипел.
– Рад, что ты надумал посетить наше скромное собрание, – холодно ответил Мейнард, наблюдая за тем, как гость корчится в муках, извиваясь на грубом земляном полу. – Однако ты опоздал. Дело сделано, Арн. Я призвал силы воздуха и заключил их внутри саркофага. Отныне он завещан Посланнику Звезды. Пророчество отцов Тель-Умара сбылось. Осталось лишь…
Он повернулся к ковчегу и, воздев над головой крест, возгласил: ‘Quod dignissimum est immortalitatem consequemur! In nomine Domini Patris…’[2] В этот самый миг полумрак прорезала ослепительная вспышка, раздался рокот надвигающейся грозы, стены храма содрогнулись. Братия бросилась врассыпную. Грянул гром, чудовищной силы ураган смёл каменный кронверк, словно башню из песка. В вихре мелькнуло лицо Мейнарда – веки его были прикрыты, на губах застыла полуулыбка.
Книга первая. Самоубийство
Вступить один на один в небывалый поединок
с природой – можно ли мечтать о большем!
Юрий Гагарин
I
В приёмной Председателя советских профсоюзов товарища Томского витало беспокойство. Причиной тревоги и забившейся в угол секретарши являлись два подозрительных старика. Первый, суховатый и подвижный, с небольшой взъерошенной бородкой и в круглых очках, одетый в сюртук старого покроя, метался по помещению, будто ища выход не то из комнаты, не то из себя. Время от времени он резко останавливался, сотрясал поднятыми руками пространство и, запрокинув голову, восклицал: «Я абсолютно ничего не понимаю!» Второй, с окладистой бородой, в потёртом пиджаке и парусиновых брюках, сидел не шелохнувшись, уставя немигающий взгляд в белизну стены. На вопли первого он неизменно монотонно отвечал: «Я совершенно ничего не слышу».
– Константин Эдуардович! – высоким голосом закричал первый, подойдя вплотную к сидевшему. – Вы можете мне объяснить, зачем мы понадобились этому Томскому?
– Я вас не слышу, Владимир Иванович. Я где-то забыл свою трубу и ничего теперь не слышу.
Видимо, не поняв его, первый продолжал:
– Отрывают от работы… А ведь только работающий, мыслящий человек есть мера мирозданью. Этот человек – гвоздь в гробовой доске отжившей науки! И проникнуть в мёртвое дерево он должен до самой шляпки, до последнего предела своей витальности!
– Я забыл трубу… – глухо отозвался второй.
– Да-да, труба! Трубный глас возвещает о закате homo sapiens[3]. Но нет! Это не вершина эволюции. Человек будущего разительно ни на что не похож. У него другие тело, руки, ноги, а главное – мозг другой! Органы чувств – он иначе видит, слышит…
– Я вас не слышу. Я вообще ничего не слышу. Но категорически с вами не согласен! – заорал Циолковский.
– Не понимаю, с чем?
– Я, слава Вселенной, не разобрал, о чём вы тут распространялись, но, знаете ли, читывал вашу вампуку! И вот что я вам возражу: жизнь в высших формах подобна материализованному сну. А по-вашему выходит, что жизнь есть только взбаламученный нуль, небытие, приведённое в колебание незрелыми судорогами убогого разума!
Калужский мечтатель привстал, выставив вперёд голову, но родитель ноосферы выдержал его омертвляющий взгляд и упёрся своим лбом в его, пытаясь испепелить взором. Оба не переставали кричать. В этот момент в приёмную вошёл невысокий человек в неприметных усах и пиджаке, довольно глянул и, похлопав стариков по плечам, ободряюще произнёс:
– Работа, значит, уже закипела! Хорошо. Сегодня же доложу в ЦК.
Спорщики синхронно повернулись:
– Я совершенно ничего не слышу…
– Я абсолютно ничего не понимаю…
– Лиха беда начало! – бодро произнёс человек и прошёл в кабинет.
Это был Председатель Томский.
II
Выдержки из стенограммы заседания Объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)
12 апреля 1928 года
Сталин: Михаил, зачем ты настоял на этом заседании? Мы всё решили-обсудили, ты вечно дыму напустишь – чёрт ногу сломит. Что там у тебя за вопрос?
Томский: Ёся, я о важных вещах. Я лихорадочно думал – до боли в висках, до нервного тика, до абстиненции… И понял важную вещь! Нельзя останавливаться, нужно идти вперёд, только вперёд. Мы уже три года строим социализм в отдельно взятой стране – нет поэзии, нет порыва, нет полёта, рутина засасывает. Надо брать новые высоты – построение коммунизма на отдельно взятой планете!
24 секунды нервного молчания
Бухарин: Миша! Ты в своём уме?! Ты же реанимируешь концепции левых! Это же чистой воды троцкизм, перманентная революция. Да мировая буржуазия этого нам просто не позволит! Нетушки! (Смеётся.)
Томский: Вот я и предлагаю: строить коммунизм на планете, где никакой буржуазии нет и быть не может, потому что там вообще ничего нет. Ни производительных сил, ни производственных отношений, ни революционной ситуации, ни даже Интернационала.
Сталин: Продолжай.
Томский: Спутник Сатурна – Энцелад. Открыт (бегло читает по бумажке) Фридрихом Вильгельмом Гершелем 28 августа 1789 года. Один из наименьших шарообразных спутников; сплющенный эллипсоид; геологическая активность; предполагается наличие ледяного панциря. По мнению учёных, приемлем для колонизации.
Сталин: Каких таких учёных-мочёных?
Томский: При ВЦСПС действует комиссия во главе с Владимиром Ивановичем Вернадским и Константином Эдуардовичем Циолковским. Они провели расчёты. Всё исключительно точно.
Рыков: Это же как далеко от Солнца? Там же мороз лютый, надо валенки брать. (С усмешкой.) Потянут столько продукции наши валяльщики?
Молотов: Я тоже не понимаю. Человеку недоступно покорение иных миров!
Томский: Современному человеку – да. Но кто мешает нам создать нового человека? Уже ведутся эксперименты в этой области. Если пленум одобрит наши работы, мы сможем выйти на промышленные масштабы телотворения.
Сталин: Смелый ты человек, Миша. Может, сидел мало? И Бутырку прошёл, и Нарым, а всё занимаешься своими (с отвращением) когнитивными исследованиями. (Пауза.) А что, товарищи, вдруг у него получится? Дадим добро?
Возгласы одобрения
Сталин: Не будем голосовать – и так всё ясно. Ну что, (с презрением) Прометей пролетарский, гори синим пламенем!
III
Кабинет товарища Томского имел два противоположных входа, которые как бы разграничивали его сферы деятельности. Они не пересекались как в содержании, так и в планировке. Разные подъезды, несообщающиеся коридоры, автономные вентиляция и канализация. Обе структуры вели к кабинету Михаила Ефремовича с табличкой «Председатель ВЦСПС». Только расшифровки этих загадочных букв разнились. На официальной: Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов. На тайной: Вневременной Целеуказатель Священного Пространства Света.
Именно за этой дверью Председатель проводил рабочее совещание с главами КоКоЭн (Комиссии колонизации Энцелада) Владимиром Ивановичем и Константином Эдуардовичем.
– Я доложил в ЦК, что работа ведётся, а сам толком не могу от вас ничего добиться. Константин Эдуардович, прямой вопрос: можем ли мы организовать космическую экспедицию?
Циолковский, вооружившись звуковой трубой, напряжённо слушал, потом долго кряхтел, издавая нечеловеческие носовые звуки, которые сам, к счастью, не слышал, и наконец взялся ответствовать:
– Видите ли, я уже давно утверждал – планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Человечество в погоне за энергией света просто обязано завоевать всё околосолнечное пространство. Для этого существуют, в теории правда, транспортные возможности. А именно реактивная техника для исследования космических миров. При соответствующем финансировании я готов приступить к постройке ракетных поездов и оборудованию космической трассы Москва – Энцелад. Я уже делал подобные расчёты для трассы Калуга – Марс.
Томский облегчённо вздохнул, хотя во взгляде его и сквозило недоверие.
– Владимир Иванович, хотите что-то добавить?
– Разумеется. Я о новых источниках энергии, прежде всего атомной. Уже шесть лет я руковожу радиевым институтом, и успехи наши потенциально гигантски. Если мы превратим эти чёртовы поезда в атомовозы! Вот будет закавыка, они понесутся просто с невообразимой скоростью – как мыши по повители!
– Замечательно! А что вы можете сказать об освоении Энцелада – это возможно?
– Бесспорно! Я всегда говорил о преобладающей геологической роли человека над прочими планетарными процессами. Прежде всего мы запустим вулканы! Просто силой мысли, сознания, воли. Вулканы есть везде, только в разных количествах. Так мы создадим атмосферу планеты, а потом внедрим туда жизнь и будем плодить биологическое разнообразие. Оплодотворим девственную биоту разумом, и тогда в буре и грозе соития родится ноосфера! Таков мой краткий план.
– Позвольте сказать, – вмешался Циолковский, – я в который раз повторяю вам: человек с нынешнем состоянием мозга на это не способен…
Мыслители вновь готовы были вцепиться друг другу в бороды, но Председатель Томский решительно погасил конфликт:
– А за это можете не волноваться. Параллельно с вами работает группа профессора Райцеса. Там с помощью передовых методов выводят нового человека – пролетарского колонизатора миров. Работа эта филигранна по форме и высокодуховна по содержанию.
IV
– Зачем же вы, товарищ профессор, ей хер-то приделали? – возмущалась Вера. – Где это видано, чтобы у бабы причиндал висел, да ещё такой, свят-свят…
Райцес молчал. Меньше всего ему сейчас хотелось вступать в дискуссии с поломойкой. Ему и самому не нравилась эта затея с мужскими гениталиями, он неоднократно пробовал отговорить Томского от идеи гермафродитизма, но тот всякий раз отрезал: революционная необходимость.
Она парила в огромной колбе, заполненной жидкостью. Райцес замедлил созревание гомункулуса, чтобы получить наконец результат – три предыдущих образца погибли из-за слишком высокой скорости биохимических реакций. В 23:05 она открыла глаза. Райцес немедленно телефонировал Томскому: «Приезжайте, она в сознании!»
Томский прибыл тотчас. Он вбежал в лабораторию и подскочил к колбе. Обнажённая женщина с признаками мужчины, заключённая внутри сосуда, казалась нереальной. Гомункул, совершенный человек. Она смотрела на него ясными ярко-голубыми глазами, слегка наклонив голову набок. Её ладони касались стенки колбы. Она медленно потянулась к Томскому, прильнув к стеклу. Их взгляды встретились.
– Суккуб, настоящий суккуб! – прошептал Томский. – Спускайте воду!
Райцес принялся откачивать воду из колбы, а Томский отошёл в сторону и закурил. Пока убывала амниотическая жидкость, Райцес настраивал гидравлику, чтобы поднять колбу. Наконец всё было готово.
Она сидела на полу в чёрном круге, служившем основанием для стеклянного футляра. Томский сощурился и медленно, разделяя каждое слово, произнёс:
– Как тебя зовут?
– Каролина, – ответила она божественно прекрасным сопрано.
– Я – Михаил Павлович, а это – Яков Леонович.
В отличие от Томского, Райцес не ощущал никакой неловкости, у него не было чувства сюрреалистичности происходящего. Им овладела мания экспериментатора, азарт учёного, упивающегося своим открытием.
– Михаил Павлович, надо бы освидетельствовать, – шёпотом сказал он, наблюдая, как образец одевается в халат, – я сам не возьмусь, нужен медик.
– Категорически нет! – Томский сжал губы в нитку.
– Есть у меня человек, надёжный. Доктор Халудров, – не унимался Райцес. Томский сурово взглянул на него.
– За сохранность гостайны отвечаете головой!
– Так точно, Михаил Павлович.
Доктор Халудров приехал под утро. Это был высокий седой старик азиатской внешности, одетый в тяжёлое чёрное пальто и потрёпанный костюм. Раздевшись в прихожей и вымыв руки, он без лишних слов приступил к осмотру. Спустя двадцать минут доктор глухо произнёс: «Патологий не обнаружено, кроме Hermaphroditos[4]», – после чего быстро оделся и направился к двери. Райцес пошёл провожать.
Всё это время Томский курил одну папиросу за другой, у него слезились глаза и нервно подёргивались уголки губ.
Рассвет Томский и Райцес встретили за чаем. Оба выглядели вымотанными.
– Надо бы проверить половую способность образца, как думаете, Яков Леонович?
– Не рано ли, Михаил Павлович? Только что из пробирки, клиническая картина не ясна, а вы сразу, так сказать, в бой?
Томский бросил на Райцеса недобрый взгляд и, стряхнув пепел, многозначительно произнёс:
– Вам партия доверила ответственнейшее задание. Можно сказать, судьба революции сейчас в ваших руках. Не этих, понимаешь, педерастов из Коминтерна, а ваших, Яков Леонович! Потом, что я скажу ЦК? У товарищей этот вопрос самым острым образом… стоит… Тьфу!
Томский затушил папиросу и решительно поднялся.
– Вечером везите её ко мне на дачу в Болшево. А сейчас спать. Голова кругом, чёрт!
Одевшись, он собрался уходить, но вдруг остановился.
– Почему Каролина?
Райцес пожал плечами.
V
– Принимая во внимание замедление оборота оборачиваемых средств на фоне снижения производительности труда, – Томский расхаживал по комнате, диктуя текст, который Каролина молниеносно набирала на пишущей машинке «Ремингтон», – полагаю правильным…
Томский вдруг остановился. Постояв немного в задумчивости, он проговорил:
– А я ведь раньше стихи писал. Вот к примеру:
Я каторжник я отщепенецУкор и желчь в моих словахКак нить таскает веретенецНа тлёй изъеденных коврахТаков и я судьбы прожигаС чугунной гирей на ступнеРаспутства мне милее игоИ карт краплёное кареОпорой мне адиофораКостыль пирата мне гужомВхожу как в templum urbis Romae[5]Я в кокаиновый притонДо дна испита чаша грустиЕдиный миром правит рокИ прорвы пленник всё кружусь яВагоном в лондонском метроТомский порылся в портфеле и извлёк фотокарточку:
– Вот… Это мы на Пятом съезде партии. Вот я. А это – Ленин. Седьмой год, молодые…
Каролина сочувственно улыбнулась. Томский смутился и замолчал.
VI
Развесёлая комсомольская компания гуляла в парке «Сокольники» – гитары, песни, поцелуи, жизненный оптимизм. Влюблённые не обращали внимания на двух бородатых стариков, не спеша ковылявших по цветущим аллеям. Меж тем оба они были так же молоды душой, энергичны в суждениях и безумны в устремлениях.
– Мой эгоизм, Владимир Иванович, глубоко этичен. Суть его в искоренении во вселенной всяческих мук, вызванных субъективными недоразумениями. Я хочу оградить атомы бытия от попадания в несовершенный, страдальческий или преступный организм.
– Да, Константин Эдуардович! Жизненная сверхидея состоит в максимальном использовании телесных и духовных сил индивида, направленных на излечение ослепшей природы от самой себя. Бремя панпсихизма – исцелять и искоренять непотребства озверевшего мирозданья.
– Именно! Надо стремиться к изъятию из мирового коловращения несовершенных существ: преступников, калек, больных, слабоумных, несознательных. Они не должны давать потомства. Проникаясь убогостью своего бытия, с нашей безболезненной и ненавязчивой помощью они угаснут.
– Да, и наоборот. Осознание прогрессивным человечеством собственного величия есть та самая сила, которая движет жизнь. А что же получается у нас? Народные массы несут лишь служилое тягло, где они являются рабской безличной основой ложного благополучия. – Цивилизация пожирает сама себя и своего создателя – человека. О, если бы мы могли выделить из безликой массы существ, поглощённых новыми мыслями, смелыми изобретениями, революционными теориями! Сколько бы смогла сделать эта творческая орава, устремлённая ввысь!
– Дорогой Константин Эдуардович, всё закладывается в детстве. Мы должны принудительно прививать младенцам страсть к познанию, истине, красоте. Перекраивать детские мозги с целью культивации любви, давая направление уму и сердцу.
– Да, друг мой, но нельзя забывать и о старости! Положим, человек реализовал свои потенции в пятьдесят, сорок, да пусть даже в тридцать лет. И чувствуется разлад в душе его, жизненные тяготы терзают дряблое тело. Что делать? Я знаю – убьём его самым безболезненным способом! Врачи уверяют, такой есть. В самом деле: если устроить машину, которая в тысячную долю секунды раскурочит человека на электроны, то это разрушение никак не будет сопровождаться страданием, так как не сможет отразиться на нервах по причине своей кратковременности.
– Бесспорно, это высшая гуманность!
– Увы, единственное, чем можно помочь.
А комсомольцы всё резвились на лужайках парка, не ведая, что помощь уже близко и судьба их предрешена…
VII
– Я вот что подумал, Яков Леонович. Надо бы ей судьбу какую-то определить. Понимаете, о чём я? – спросил Томский.
– Да-да, документы выправить, рабфак, партячейка…
– Нет, не то, – Томский выдержал паузу. – Вот возьмём, к примеру, переселение душ. Душа, соединившись с телом, проходит астральный путь, а провидение играет судьбой как картой, и ставка в этой игре – жизнь.
Райцес округлил глаза.
– Или вот, допустим, предсказания иллюминатов…
– Михаил Павлович, наука…
– К чёрту науку! – Томский сделал решительный жест. – Не для того мы поднимали революцию, чтобы слушать эту антропософию! Рабочему классу нужны не относительные истины, а абсолютные, как скорость фотона в вакууме! Если мы не заставим себя это понять и принять, история сметёт нас так же, как смела гнилой царизм. Как вы можете этого не видеть?!
Томский подошёл к большому книжному шкафу и, порывшись, достал старый фолиант.
– Вот, возьмите. Прочтите. И затвердите как правило: наука – лишь средство, а цель… она там, – Томский указал вверх.
VIII
Райцес хотел уснуть, но не мог: в голове роились мысли. Он взял в руки книгу, которую дал Томский. На обложке золочёными буквами было написано: «Колода судеб». Открыв на случайной странице, Райцес прочёл: «Ключник призывал Церковь отказаться от христианской проповеди, так как это мешает свободе выбора. Задачу Святого Престола он видел в увеличении количества грешников и пополнении ада. Преисподнюю рассматривал исключительно утилитарно, как некое полезное производство, где грешники должны трудом бесконечно искупать свою вину. Концепцию рая автор сформулировать не успел».
Райцес захлопнул книгу. Ему вспомнились слова одного почтенного отца семейства, который, узнав, что его дочери практикуют спиритизм, изрёк: «Ну положим, я могу поверить, что дух Льва Толстого приходил к вам, но я ни за что не поверю, что он с вами, дурами, целых два часа разговаривал». Райцес улыбнулся и, закрыв глаза, моментально уснул.
IX
– Ну что, будешь сотрудничать, падла? – спросил Котька Гонтштейн – однокашник, друг и просто замечательный парень. Всё детство в Киеве они провели вместе. Котьку зарезали в пьяной драке в девятнадцатом.
Райцес хотел что-то сказать, но не мог: все зубы у него были выбиты, во рту – кровавая каша. Он сидел на стуле, руки были связаны за спиной. Попытался встать – ноги не слушались.
– Зря сопротивляешься, и не таких ломали, – уверенно сказал Котька. – Ты бы лучше придумал, что дальше делать будешь.
Райцес оглядел комнату. Это была небольшая каморка с неровными стенами и без окон. Стол, пара стульев – другой мебели не было. Грязная лампа свисала с потолка. Райцес попытался вспомнить, как он сюда попал. Запомнилось только, что его долго били какие-то люди в грубых кирзачах, время от времени прерываясь на перекур.
– Яша, пойми, тебя всё равно заставят оперировать, – продолжал Котька, – хочешь ты этого или нет. Сейчас не то время, понимаешь? Я тебе как другу говорю: они никого не жалели и тебя не пожалеют.
Это сон, подумал Райцес. Он попытался проснуться – отчаянно заелозил и заорал, чтобы шевельнуться в реальности или издать какой-нибудь звук, но это не помогло. Сон не проходил. Райцес попробовал ещё – безрезультатно.
– Ну и дурак, – сказал Котька. – Не хочешь меня слушать, придётся позвать того, кого ты точно послушаешься, – он встал и, пройдя мимо Райцеса, исчез.
Через какое-то время дверь отворилась, и в комнату вошёл Леон Соломонович Райцес. Он был точно такой, как при жизни: сутулый, в старом засаленном пиджаке, из-за круглых очков печально смотрели водянистые глаза, над которыми нависли седые косматые брови.
– Здравствуй, сынок.
– Здравствуй, папа.
Отец придвинул стул и сел.
– Как ты кушаешь?
– Хорошо, – Райцес предпринял очередную попытку проснуться.
– Всё так же не завтракаешь?
– Нет.
– Надо завтракать. Меня как в Гражданскую убили, я с тех пор каждый день завтракаю. Тут, конечно, скучновато, но зато кормят. Знаешь, маюсь немного, а с другой стороны, что делать? – Леон Соломонович грустно улыбнулся.
– Ты вот что, – продолжил отец, – о чём ни попросят, всё делай, как они хотят. Ну, во-первых, это логично. У большевиков наука не может быть и не будет никогда самостоятельной. Ей суждено исполнять высшую цель, стало быть, любое открытие оправдано этой самой целью. А без цели и самой науки нет. Вот так-то.
Леон Соломонович встал и не спеша пошёл к двери. Уже взявшись за ручку, он обернулся и, посмотрев на Яшу большими печальными глазами, произнёс:
– А во-вторых, они всё равно тебя убьют. Будешь ты работать, не будешь – конец один. А так хоть след останется.
X
На даче Председателя Томского шёл непростой разговор. Михаил Ефремович сидел за монументальным столом, унижавшим его своей мощью. Циолковский стоял у окна и, безбожно фальшивя, напевал куплеты Регины де Сен-Клу из оперетты «Вольный ветер». В его исполнении изящная мелодия казалась зловещей. Академик Вернадский, примостившись на диванчике, пытался отбивать такт зонтом. Спонтанное музицирование прервал голос Председателя:
– Годы упорного труда и никаких результатов! Ради КоКоЭна я бросил профсоюзною работу, ушёл с должности, оставил товарищей, а вы говорите, мол, мы, дескать, не можем! Вы, Константин Эдуардович, помнится, и Орден Трудового Красного Знамени получили авансом. А вы, Владимир Иванович…
– А что, собственно, я? Вам бы только философские пароходы учёными набивать! Работаю с теми, кто остался, да-да, с этими выдвиженцами, людьми ниже среднего, дельцами и ворами. Уже сложилась некая прослойка. Не дотягивают до уровня института благородных девиц и морально, и как специалисты. А уж про вашу партию я вообще молчу! Функционеры меняются с первой космической скоростью, и компетентность каждого следующего всё ниже.
Председатель отреагировал немедленно:
– Товарищ Вернадский, не пришлось бы вам при таких взглядах изобретать атомную тачку на Беломорканале! А вы что скажете? – повернулся он к Циолковскому. Тот оторвал от уха слуховую трубу и пару раз махнул ею в воздухе, отгоняя несуществующую муху. Затем, откашлявшись, глухо заговорил:
– Невежды думают, что жизнь есть произведение безграничной Вселенной, и её так же просто можно вернуть обратно в Космос и перемещать там, как заблагорассудится, туда-сюда. Хочу на Луну, на Энцелад, на Ио… А оказывается, перенос жизни через мировые пространства – чертовски хлопотное дело.
Ведь водить корабли вдалеке от Земли —Это дело немыслимо сложное:Крайне трудно оно, если судно одно,Если два – то совсем невозможное!– Коллега прав, – поддержал Вернадский, – мы строили гипотезы на основании одних фактов, столкнулись с другими, и в итоге руководствовались третьими. Мы вступили в противоречие с причинностью. Впрочем, надо отдать нам всем должное, мы не запаниковали и не смирились, а изо всех сил пытались волей и разумом опрокинуть формальную логику и форсировать научный процесс.