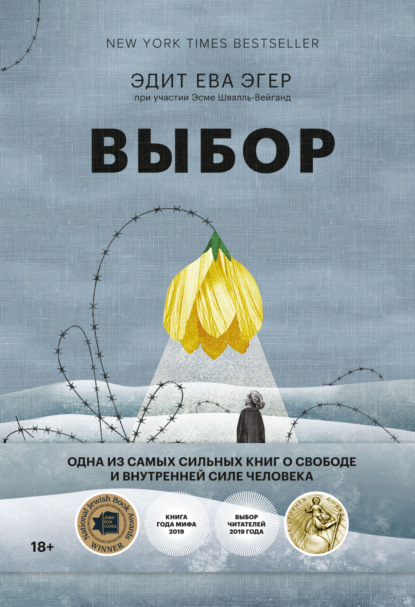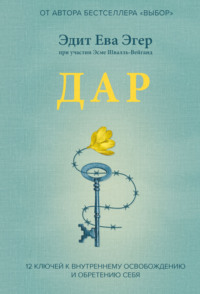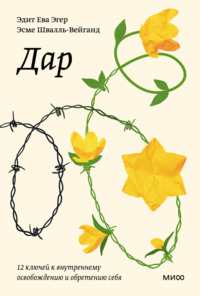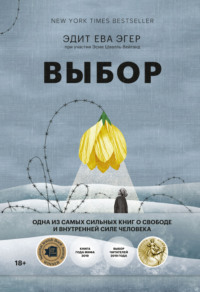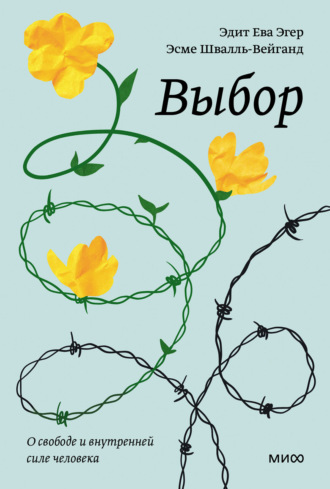
Полная версия
Выбор. О свободе и внутренней силе человека
Собственные поиски свободы и многолетний опыт работы в качестве клинического психолога научили меня, что страдание – явление универсальное. Но вовсе не обязательно иметь психологию жертвы. Есть разница между виктимизацией и виктимностью[5].
Нас всех в течение нашей жизни так или иначе могут сделать жертвами. Мы все рано или поздно переносим болезни, испытываем бедствия, сталкиваемся с плохим обращением – и все это бывает вызвано обстоятельствами, людьми или институциями, над которыми никто из нас не властен. Такова жизнь. Подобное и называется виктимизацией. И появляются эти процессы извне. Сосед-хулиган, начальник-хам, муж-тиран, любовник-обманщик, дискриминационный закон, несчастный случай, из-за которого мы оказываемся в больнице.
Напротив, синдром жертвы обусловлен внутренним состоянием человека. Никто, кроме нас самих, не может навязать нам психологию жертвы. Мы входим в роль жертвы не из-за того, что с нами происходит, а потому, что принимаем решение держаться своего мученичества. Начинает развиваться сознание жертвы – сознание, ломающее наше мировоззрение и наш образ жизни; сознание, с которым мы становимся людьми негибкими, порицающими, безжалостными, требующими карательных санкций, пессимистичными, застрявшими в своем прошлом, с отсутствием здравых ограничений. Мы выбираем психологию жертвы, сами заключаем себя в застенок и превращаемся в собственных тюремщиков.
Хочу сразу прояснить одну вещь. Говоря о жертвах и выживших, я не возлагаю вину на жертв – многие из них не имели ни единого шанса. Я никогда не стала бы осуждать ни тех, кого отправляли в газовые камеры, ни тех, кто тихо угасал на нарах, ни даже тех, кто сам бросался на колючую проволоку под напряжением. Я скорблю по каждому, кто подвергся насилию и был обречен на гибель. Я живу, чтобы помогать людям расширять свои возможности в их противостоянии любым жизненным испытаниям.
Кроме того, хочу сказать, что не существует иерархии страдания. Нет ничего, что делало бы мою боль сильнее или слабее вашей; нельзя начертить график и отмечать на нем уровень значимости того или иного горя. Я часто слышу от своих пациентов: «Мне сейчас очень нелегко, но разве я могу жаловаться? Это же не Аушвиц». Подобное сравнение приводит к тому, что человек, преуменьшая собственные страдания, не дает им должной оценки. Чтобы не ощущать себя жертвой, а жить, как говорится, припеваючи, нужно полностью принимать как свое прошлое, так и настоящее. Если мы пытаемся умалить боль; если наказываем себя за то, что сбились с жизненного пути или замкнулись в горе; если отмахиваемся от житейских невзгод только потому, что кто-то считает их незначительными, – мы всё еще предпочитаем для себя путь жертвы. Мы так и не видим вариантов выбора. Мы продолжаем судить себя. Я не хочу, чтобы вы, услышав мою историю, сказали: «Мои страдания не так значительны». Мне хочется, чтобы вы сказали: «Если она смогла так, значит, смогу и я!»
Однажды утром у меня шли друг за другом две пациентки – обеим немного за сорок, у обеих были дети.
У первой женщины дочь умирала от гемофилии. Большую часть визита она прорыдала, вопрошая, как Бог смеет забирать жизнь ее ребенка. У меня так болела душа за нее – она полностью посвятила себя заботе о дочери и выглядела абсолютно опустошенной из-за неумолимо приближающейся потери. Она злилась, впадала в отчаяние и не была уверена, что сможет пережить этот удар.
Следующая женщина приехала ко мне не из больницы, а из загородного клуба. Она тоже большую часть сеанса провела в слезах. Ее расстроил новый кадиллак – его совсем недавно доставили ей, и автомобиль оказался не того оттенка желтого, который она желала. На первый взгляд, проблема была пустяковой, особенно по сравнению с горем предыдущей женщины. Но я хорошо знала эту пациентку и понимала, что плач из-за цвета машины на самом деле плач отчаяния по поводу несложившейся жизни. Все шло не так, как ей хотелось бы: одиночество в браке; сын, в очередной раз выгнанный еще из одной школы; загубленная карьера, от которой она отказалась, чтобы больше быть с мужем и ребенком. В нашей жизни часто за мелкими огорчениями прячутся более серьезные обиды; в незначительных, казалось бы, переживаниях отражается глубокая боль.
В тот день я поняла, что двух моих пациенток, таких на первый взгляд разных, многое объединяет – и не только друг с другом, но и со всеми людьми. Обе женщины реагировали на ситуации, которые они не могли контролировать, в которых их ожидания не оправдались. Обе страдали, и каждая ощущала себя в бедственном положении. Все получалось не так, как они хотели или ожидали; они пытались примирить то, что случилось, с тем, что должно было бы быть. Боль и той и другой была настоящей. Каждую настигла своя человеческая драма: когда мы обнаруживаем себя в неожиданных ситуациях, которые, как нам кажется, мы не готовы вынести. Обе женщины имели право на мое сочувствие. У обеих была возможность залечить свои раны. Эти женщины, наравне со всеми нами, могли сделать выбор: как относиться к случившемуся и что делать дальше. И несмотря на то что их жизненные обстоятельства уже не изменятся, обе обладали возможностью избавиться от роли жертвы и стать выжившими. У оставшихся в живых нет времени спрашивать: «Почему я?» Для них существует лишь один вопрос: «Что дальше?»
На каком бы этапе своей жизни вы сейчас ни были: наслаждаетесь ли вы ранней молодостью, вошли ли в зрелый возраст или достигли старости; познали ли вы глубокие страдания или только начали сталкиваться с трудностями; переживаете ли свою первую влюбленность или, находясь уже в преклонном возрасте, навсегда проводили своего спутника жизни; приходите ли в себя после перевернувшего все ваше существование события или пребываете в ожидании хоть каких-нибудь перемен, могущих сделать вашу жизнь радостнее, – в любом случае я буду рада помочь вам. Я расскажу, как найти способ сбежать из своего внутреннего концлагеря, созданного вашим сознанием; как стать тем, кем вы должны быть. Я хотела бы помочь вам обрести свободу: независимость от прошлого, от неудач и страхов, от гнева и ошибок, от сожалений и неизбывного горя – свободу наслаждаться безграничным и щедрым праздником жизни. Мы не в состоянии заказать себе жизнь, в которой не было бы места ни горю, ни боли. Но мы можем решить стать свободными, спастись от прошлого и, невзирая на то, что выпало на нашу долю, объять все возможное. И я приглашаю вас сделать выбор в пользу свободы.
На пятничный ужин мама всегда пекла халу. Подобно шабатному хлебу, сплетенному из трех полосок теста, моя книга состоит из трех линий: это история моего выживания, история моего исцеления и истории дорогих мне людей, которых я имела честь выводить на путь освобождения. Я изложила свой опыт так, как я его помню. В рассказах о моих пациентах суть их случаев отражена точно, но имена и нюансы, по которым их можно было бы узнать, я изменила; в некоторых случаях я добавляла эпизоды историй других людей, решавших со мной аналогичные проблемы. Теперь вам предстоит прочитать историю выбора – иногда большого, иногда малого, – выбора, который может провести человека от травмы к победе, из тьмы к свету, из заточения к освобождению.
Глава 1. Чем отличается эта ночь от других ночей
Если извлечь из моей жизни самый важный момент, представить всю мою историю одним-единственным стоп-кадром, он будет выглядеть так: на безжизненном пространстве двора стоят три женщины в темных шерстяных пальто, крепко держась за руки. Они обессилены. На их туфлях лежит пыль. Они стоят в длинной очереди.
Три женщины – это моя мама, моя сестра Магда и я. И это последние мгновения, когда мы вместе, но мы еще ничего не знаем. Мы отказываемся думать о таком исходе. Или мы так устали, что нет сил даже гадать, что будет дальше. На кадре момент разрыва – разлука матери и дочерей, раскол жизни на до и после. Впрочем, подобный смысл можно придать только задним числом.
Вижу нас троих сзади, как если бы я стояла следующей в очереди. Зачем память показывает мне затылок мамы, а не ее лицо? Мамины длинные волосы затейливо заплетены и заколоты у нее на макушке. Светло-каштановые волны касаются плеч Магды. Мои волосы заправлены под шарф. Мама стоит между нами, мы с Магдой прильнули к ней. Ни за что не поймешь: мы с сестрой помогаем ей устоять на ногах или, наоборот, ее сила – та опора, которая поддерживает меня и Магду.
Этот момент знаменует начало тяжелых потерь в моей жизни. Семь десятилетий я мысленно снова и снова возвращалась к образу трех женщин. Изучала этот стоп-кадр, тщательно всматриваясь в него, словно могла отыскать в нем что-то драгоценное. Словно могла вернуть ту жизнь, что была до него, – жизнь до потери. Как будто она все еще где-то идет.
Я вернулась туда, чтобы побыть с ними еще немного, найти покой в той минуте, когда мы еще держимся за руки и есть друг у друга. Я вижу наши опущенные плечи. Пыль, приставшую к подолам наших пальто. Свою маму. Свою сестру. Себя.
Часто детские воспоминания фрагментарны, они состоят из кратких мгновений и встреч, из которых и складывается альбом нашей жизни. Это все, что мы оставляем для себя, дабы понять собственную историю, которую мы рассказываем самим себе, – историю о том, кто мы.
Мое самое сокровенное воспоминание о маме – еще до момента, как нас разлучили, – оно мне очень дорого, хотя и связано с печалью и утратой. Мы вдвоем на кухне, мама заворачивает остатки штруделя. Я видела, как она его готовила, разделывая руками тесто и раскатывая по обеденному столу, словно тяжелую льняную ткань. «Почитай мне», – говорит она, и я приношу с ее прикроватного столика потрепанный том «Унесенных ветром». Мы уже прочитали его один раз от начала до конца, теперь начали снова. Мой взгляд задерживается на загадочной надписи на английском на титульном листе переводной книги. Почерк мужской, но не моего отца. Мама говорит только, что книгу ей подарил мужчина, с которым она познакомилась, когда работала в министерстве иностранных дел, до того как встретила моего папу.
Мы сидим на стульях с прямыми спинками рядом с дровяной печью. Я бегло читаю взрослый роман, хотя мне всего девять. «Хорошо, что ты у нас умная, а то внешность у тебя так себе», – не первый раз говорит мне мама, то ли делая комплимент, то ли вынося приговор. Иногда она бывает сурова со мной. Но я наслаждаюсь теми минутами. Когда мы вот так вместе читаем, мне не приходится ни с кем ее делить. Я погружаюсь в слова, в сюжет и в свое ощущение, что мы с ней одни на всем свете. Скарлетт возвращается в Тару, когда война заканчивается, и узнает, что мать ее умерла, а отец охвачен глубоким горем. Скарлетт говорит: «Бог мне свидетель… я никогда больше не буду голодать». Мама закрывает глаза и прислоняется затылком к спинке стула. Хочется забраться к ней на колени. Хочется прижаться головой к ее груди. Хочется, чтобы она касалась губами моих волос.
– Тара… – говорит она. – Америка! Вот куда бы уехать.
Мне хочется, чтобы она произнесла мое имя с той же нежностью, с которой она обращается к земле, где никогда не была. Запахи маминой кухни смешиваются в моем сознании с драматизмом голода и застолья – поскольку даже праздничные ужины всегда тоскливы. Не знаю, чья это тоска. Моя ли, мамина ли, наша общая?
Мы сидим, между нами огонь.
– Когда я была в твоем возрасте… – начинает мама.
Теперь, когда она заговорила, я сижу не двигаясь, боясь, что она замолчит, если я шелохнусь.
– Когда я была в твоем возрасте, маленькие дети спали вместе. Я спала с мамой в одной кровати. Однажды утром я проснулась из-за крика папы: «Илонка, разбуди мать, она еще ни завтрак не приготовила, ни одежду для меня не разложила». Я повернулась к маме, которая лежала рядом, укрывшись. Но она не двигалась. Она была мертва.
Моя мама никогда мне об этом не рассказывала. Я хочу узнать все подробности о той минуте, когда дочь просыпается рядом с матерью, которую уже потеряла. И в то же время мне хочется отвернуться. Слишком страшно об этом думать.
– Когда маму похоронили в тот же день, я думала, что они закопали ее в землю заживо. Вечером отец велел мне готовить ужин на всю семью. Это я и сделала.
Я жду продолжения истории. Жду морали в конце или утешения.
– Пора спать, – все, что говорит моя мама. Она наклоняется подмести золу под печью.
За дверью в коридоре глухой звук шагов. Я чувствую запах папиного табака еще до того, как слышу бряцанье ключей.
– Дамы, – зовет он, – вы еще не спите?
Он заходит на кухню в своих натертых до блеска ботинках и элегантном костюме, с широкой улыбкой, в руках у него маленький мешочек, он дает его мне и звонко целует в лоб.
– Я снова выиграл, – хвастает он.
Когда папа играет в карты или бильярд с друзьями, он всегда делит выигрыш со мной. Сегодня он принес птифур, покрытый розовой глазурью. Если на моем месте была бы сестра Магда, мама, которую всегда беспокоит ее вес, сразу унесла бы лакомство подальше, но мне она кивает, разрешая съесть.
Она стоит между огнем и раковиной. Папа подхватывает ее, чтобы закружить с нею по комнате, и она вальсирует с ним холодно, не улыбаясь. Он притягивает ее к себе, сжимая в объятиях. Одна его рука на ее спине, другой он дразняще поглаживает ее грудь. Мама отстраняется от него.
– Для твоей мамы я одно разочарование, – не слишком тихо шепчет мне папа, когда мы уходим из кухни. Хочет ли он, чтобы мама краем уха его услышала, или это секрет, сказанный только мне? Так или иначе, его слова я сохраню, чтобы обдумать позже. Но горечь в папином голосе меня пугает.
– Она хочет ходить каждый вечер в оперу, жить роскошной жизнью, быть гражданкой мира. А я обычный портной. Портной и бильярдист.
Папин убитый голос приводит меня в смятение. Его хорошо знают у нас в городе и очень любят. Балагур и добряк, он всегда выглядит как человек энергичный и уравновешенный. С ним, известным весельчаком, не бывает скучно, и он постоянно окружен бесчисленными друзьями. Любитель поесть – особенно ветчину из свинины (иногда тайком он приносит ее в наш кошерный дом, ест прямо с газеты, в которую она была завернута, запихивает кусочки запрещенной свинины и в мой рот, а после выслушивает мамины обвинения, какой гадкий пример он подает ребенку). Его ателье заслужило две золотые медали. Он не просто делает ровные швы и прямые края. Папа – мастер пошива высокого класса. Так они познакомились с мамой: ей потребовалось новое платье и она пошла к нему в ателье, так как его имя было у всех на устах. Правда, папа хотел стать не портным, а врачом, но его отец отверг эту мечту, и временами папино недовольство собой дает о себе знать.
– Ты не обычный портной, папа, – заверяю я его. – Ты самый лучший портной!
– А ты будешь самой нарядной девушкой в Кошице! – говорит он, гладя мои волосы. – Твоя прекрасная фигурка создана для шикарных нарядов!
Похоже, он уже справился со своей досадой, взял себя в руки и успокоился. Мы с ним подходим к спальне, в которой, кроме меня и Магды, спит еще наша средняя сестра Клара. Сейчас наверняка Магда делает вид, что выполняет домашнее задание, а Клара очищает свою скрипку от канифольной пыли. Нам с папой не хочется расставаться, и мы задерживаемся у двери.
– Знаешь, я хотел, чтобы ты была мальчиком, – говорит папа. – Когда ты родилась, я хлопнул дверью. Как я злился, что у нас еще одна девчонка. А теперь ты единственная, с кем я могу поговорить.
Он целует меня в лоб.
Мне приятно, когда отец так нежен со мной. Папино внимание бесценно, как и мамино, – и так же зыбко. Мне казалось, будто сила родительской любви напрямую зависит от приступов одиночества у каждого из них, а не от того, насколько я заслуживаю ее. Словно их не интересовала моя личность – то, что я представляю собой. Я была для них вроде эрзаца. И папа и мама обращали ко мне свою любовь лишь в минуты своей душевной опустошенности.
– Спокойной ночи, Дицука, – наконец говорит папа. Это уменьшительное имя для меня придумала мама. Ди-цу-ка. Сколько тепла я ищу в этих нелепых слогах.
– Скажи сестрам, что пора гасить свет.
Я вхожу в спальню, Магда и Клара встречают меня песенкой, которую когда-то придумали обо мне. В три года, вследствие неудачной медицинской манипуляции, у меня появилось косоглазие, и сестры на это сочинили: «Ты тщедушная уродка, таких замуж не берут!» После того несчастного случая я во время ходьбы всегда опускаю голову, чтобы люди не глазели на мою кривую физиономию, а мне не приходилось видеть их реакцию. Тогда я еще не понимала: проблема не в сестрах, дразнивших меня гадкой песенкой; суть в том, что я им поверила. Я настолько убеждена в собственной неполноценности, что никогда не представляюсь по имени. Я не говорю: «Я Эди», а представляюсь: «Я сестра Клары». Ведь скрипачка Клара – юное дарование. В пять лет она уже исполняла концерт Мендельсона для скрипки с оркестром.
Но в тот вечер мне стали доступны особые знания. «Мамина мать умерла, когда мама была в моем возрасте», – выпаливаю я. Я почему-то абсолютно уверена в исключительной ценности своей информации. Мне и в голову не приходило, что для моих сестер она уже давно не новость, что в семье я последняя, кто узнал об этом.
– Не может быть, – говорит Магда с таким очевидным сарказмом в голосе, что даже я его замечаю. Ей пятнадцать, у нее пышный бюст, чувственные губы и вьющиеся волосы. В нашей семье она главная хохмачка. Когда мы были помладше, Магда научила меня бросать виноградины из окна нашей спальни в чашки с кофе людям, сидящим внизу на террасе. Вдохновляясь ее идеями, я вскоре придумаю собственные забавы, однако к тому времени ставки изменятся. С моей подружкой мы начнем дефилировать мимо мальчишек в школе или на улице и, хлопая ресницами, призывно шелестеть: «Встретимся на площади у часов в четыре». Они обязательно придут, они всегда будут приходить: кто-то окрыленный, кто-то застенчивый, кто-то развязный – но все полные ожиданий. Мы с подругой будем скрываться в моей спальне, стоять у окна и наблюдать, как они слетаются.
– Не дразни ее так, – резко осаждает Магду Клара. Она младше Магды, но вступается за меня.
– Помнишь ту фотографию над пианино? – говорит она мне. – С которой мама все время разговаривает? Это ее мать.
Я знаю, какую фотографию она имеет в виду – смотрю на нее каждый день. «Помоги мне, помоги мне», – жалобно стонет наша мама, обращаясь к портрету, когда вытирает пыль с пианино или подметает пол. Я чувствую себя неловко из-за того, что никогда не спрашивала ее – или кого-то еще, – чей это портрет. Меня также расстраивает, что моя новость оказалась ненужной и не придала мне веса в глазах сестер.
Из трех сестер меня считают самой тихой и неприметной. Мне было невдомек, что Магде может надоесть ее вечное зубоскальство, а Клара может внутренне роптать на свою участь юного виртуоза. Ей ни на секунду нельзя останавливаться, иначе она перестанет быть выдающейся скрипачкой и тогда лишится всего: потеряет всеобщее обожание, к которому так привыкла, и утратит свою высокую самооценку. Мне и Магде приходится прилагать массу усилий, чтобы добиться хоть чего-нибудь, однако и я, и она абсолютно уверены, что, сколько бы мы ни вкалывали, этого всегда будет недостаточно. У Клары другое: ей нужно беспокоиться, что в любой момент она может совершить фатальную ошибку – и потерять все. Сестра играет на скрипке всю мою жизнь – столько, сколько я себя помню. Она начала, когда ей было три года. Уже гораздо позже я поняла, какова цена ее удивительного таланта: Клару лишили детства. Я никогда не видела, чтобы она играла в куклы. Вместо этого она стояла у открытого окна и упражнялась на скрипке; сестра не получала удовлетворения от своей игры, если внизу не собиралась толпа прохожих – восхищенных свидетелей ее творческого дара.
– Мама любит папу? – спрашиваю я сестер. Холодность между нашими родителями и их печальные признания наталкивают меня на мысль, что я никогда не видела, чтобы нарядными они шли куда-то вместе.
– Ну что за вопрос, – говорит Клара. Хотя сестра уходит от ответа, но по ее глазам я вижу, что, похоже, ей знакомо мое чувство. Мы никогда больше не затронем эту тему, несмотря на мои дальнейшие попытки. Пройдут годы, прежде чем я узнаю то, о чем мои сестры уже наверняка догадались: на самом деле довольно часто любовь бывает обусловленной, основанной на выполнении ожиданий другого человека, – она дается как вознаграждение, и ты довольствуешься этим малым.
Пока мы надеваем ночные рубашки и укладываемся спать, все мои переживания за родителей благополучно улетучиваются. Мысли заняты уже другим: моим балетмейстером и его женой, чувством, которое меня охватывает, когда я, перескакивая через две-три ступеньки, взбегаю по лестнице в студию, сбрасываю школьную форму и натягиваю купальник и трико. Я занимаюсь балетом с пяти лет, с тех пор как мама выяснила, что музыка – не мое, но у меня есть другие таланты. Сегодня мы делали упражнения на шпагат. Балетмейстер напомнил нам, что сила и гибкость неразделимы: чтобы одна мышца напряглась, другая должна расслабиться; чтобы выработать правильную растяжку и стать гибкой, нужно иметь сильное сердце и крепкий костяк.
Я держусь за его наставления как за молитву. Опускаюсь, спина прямая, брюшной пресс напряжен, ноги вытянуты в стороны. Не забываю про дыхание, особенно когда начинаю застревать в одном положении. Я представляю, что мои мышцы и связки натягиваются, словно струны на скрипке моей сестры; важно найти точку натяжения, чтобы заставить тело звучать как инструмент. И вот я опустилась. Я это сделала. Села на полный шпагат. «Браво! – хлопает балетмейстер. – Замри вот так». Он поднимает меня с пола и держит над головой. Трудно полностью вытягивать ноги в стороны, не опираясь на пол, но на секунду я чувствую себя так, будто я подарок, подношение. Я луч света. «Эдитка, – говорит учитель. – Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри». Через многие годы я по-настоящему пойму, о чем шла речь. А тогда я лишь знала, что могу правильно дышать, вращаться, делать махи ногой и гнуться. Мои мышцы растягиваются и укрепляются. Любое мое движение, любая поза будто взывают: это я; я есть; я существую; я такая, какая есть; я живая.
Память – территория священная. Равным образом память – место заколдованное, место, населенное призраками, неотступно меня преследующими. Там мои гнев, скорбь и чувство вины кружат, словно голодные стервятники, роются в одних и тех же старых костях. Там брожу я в поисках ответа на вопрос. Вопрос, на который нет ответа. Почему выжила я?
Мне семь лет; родители пригласили на ужин гостей. Меня посылают налить в кувшин воды. Из кухни я слышу, как они шутят: «Вот уж без чего можно было обойтись». Мне кажется, это намек на то, что до моего появления на свет они уже были полной семьей. Они имели дочь, которая играла на фортепьяно, и дочь, которая играла на скрипке. «Я лишняя, я недостаточно хороша, мне нет места» – так думаю я. Так мы неверно истолковываем факты своей жизни, строим домыслы и не проверяем, правда ли это. Так мы сами себе придумываем истории, подкрепляя то, во что уже успели поверить.
Мне восемь лет; однажды я решаю сбежать из дома. Собираюсь проверить свою теорию, что меня никто не замечает и все без меня обойдутся. Посмотрим – когда меня не будет дома, – обратят ли родители на это внимание. Вместо школы я направляюсь к дедушке с бабушкой – сажусь в трамвай и еду к ним. Мамины отец и мачеха не выдадут меня, и я доверяю им. С мамой они ведут постоянную войну из-за Магды: защищают мою сестру даже тогда, когда мама находит в ее комоде спрятанные коржики. Для меня дедушка с бабушкой неопасны – они всегда разрешают то, что запрещено. А потом они держатся за руки, чего наши родители никогда не делают. Чтобы почувствовать их любовь, не нужно кого-то из себя изображать; чтобы заслужить их похвалу, не нужно играть. Они мое утешение и поддержка. У них дома всегда уютно пахнет грудинкой и тушеной фасолью, сладкой халой и чолнтом – сытным шабатным блюдом из тушеных овощей и мяса, которое моя бабушка ходила готовить в пекарню, так как ортодоксальные евреи не могли в субботу пользоваться своей печью.
Бабушка и дедушка рады меня видеть. То было замечательное утро. Я сижу на кухне и поедаю ореховые рулетики, когда вдруг раздается звонок в дверь. Дедушка идет открывать. Через миг он прибегает на кухню. Поскольку он глуховат, то, предупреждая меня, почти кричит: «Прячься, Дицука! Твоя мать здесь!» Пытаясь защитить внучку, он ее выдает.
Итак, мама обнаруживает меня сидящей на кухне в доме бабушки и дедушки. Но больше всего меня тревожит выражение ее лица. Она не то чтобы удивлена, увидев меня здесь, – нет, она смотрит на меня так, будто сам факт моего существования застал ее врасплох. Словно я совсем не та, кого она хотела бы встретить.
Мне десять лет. Я точно знаю, что никогда мне не быть красивой, – мама ясно дала это понять. Но вдруг она заверяет меня, что мне больше не придется прятать лицо. В Будапеште есть доктор Кляйн, который исправит мое косоглазие. Мы с ней едем в Будапешт. В поезде я ем шоколад и наслаждаюсь маминым вниманием, обращенным только на меня. Доктор Кляйн – знаменитость, как говорит мама, он первый стал проводить офтальмологические операции без анестезии. Меня захватили путешествие и счастье, что ни с кем не приходится делить свою маму. Я предаюсь мечтам и не осознаю, о чем она меня предупреждает. Мне даже не пришло в голову, что операция – процедура болезненная. И вот боль поглощает меня. Мама и ее родственники, через которых мы вышли на знаменитого доктора Кляйна, прижимают к столу мое извивающееся тело. Хуже боли – боли чудовищной и бесконечной – только ощущение, что любящие люди держат меня так сильно, что я не могу шевельнуться. Лишь намного позже, после того как операция окажется успешной, я смогу взглянуть на ту сцену другими глазами – с позиции мамы. Как, наверно, ей было тяжело переносить мои страдания.