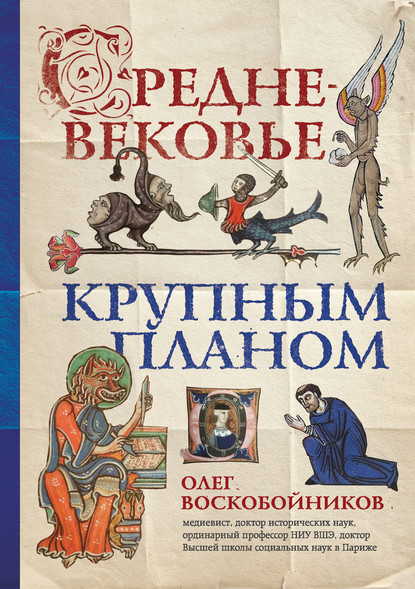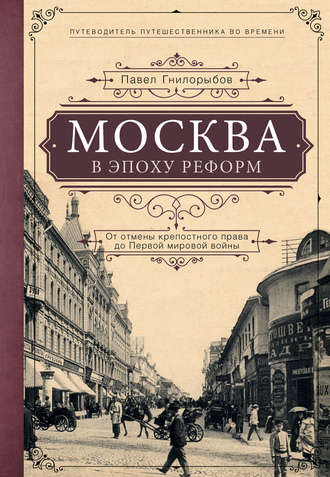
Полная версия
Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны
В 1860-е годы в московской полиции служило 212 офицеров и 2276 нижних чинов, а в составе жандармской команды числилось 489 человек. Правда, последние часто отсутствовали в городе: в годы польского восстания московские жандармы занимались конвоированием заключенных в города Сибири. В Лондоне в 1863 году несли службу 6150 полицейских. «У нас в Москве при 400 тысячах жителей один полицейский приходится на 133 обывателя. Полагаем, что это отношение должно быть признано сравнительно с английским слишком достаточным ввиду большей распущенности нравов…»
Резонансные преступления случались редко, большая преступность пожаловала в Москву вместе с освободившимся крестьянским людом. «Со всех сторон слышно о грабежах в Москве. У Ник. Дим. Маслова до сих пор шишка на спине от полученного на Пречистенке удара кистенем. Если бы удар был немножко выше и не был он в шубе, то несдобровать бы ему; нападали на него двое. Рассказывают историю про даму в пролетке, на которую напали пятеро, хожалого и кучера избили, ее раздели донага и ускакали на пролетке», – с удивлением писал В. Ф. Одоевский о новых временах.
Талантливый рассказчик Иван Горбунов перечисляет основные криминальные местечки: «Большая часть притонов, где собирались по вечерам широкие натуры, теперь уже не существует; память об них сохраняется только в устном предании. То были: трактир у Каменного моста «Волчья долина», трактир Глазова на окраине Москвы, в Грузинах; кофейная «с правом входа для дворян и купцов» в Сокольниках; трактир в Марьиной Роще и разные ренсковые погреба»[35]. У Каменного, или Всехсвятского моста москвичи в конце 1850-х старались проскочить как можно быстрее. Одно из самых опасных мест города, несмотря на близость Кремля и возводящегося храма Христа Спасителя, сохраняло флер XVII столетия. В первые годы правления Александра II мост был разобран за ветхостью.
Урбанизация ускорялась благодаря развитию сети железных дорог. Еще на рубеже 1830—1840-х годов находились скептики, не верившие в успех нового предприятия. Министр финансов Егор Канкрин утверждал: «Предположение покрыть Россию сетью железных дорог есть мысль, не только превышающая всякую возможность, но сооружение одной дороги, например хотя бы до Казани, должно считать на несколько веков преждевременным… При этом невозможно допустить употребления на дорогах парового движения, так как это повело бы к окончательному истреблению лесов, а между тем каменного угля в России нет… С устройством железных дорог останутся без занятий и средств прокормления крестьяне, ныне занимающиеся извозом».
А. И. Герцен писал в 1842 году: «Пророчат теперь железную дорогу между Москвой и Петербургом. Давай бог! Чрез этот канал Петербург и Москва взойдут под один уровень, и, наверно, в Петербурге будет дешевле икра, а в Москве двумя днями раньше будут узнавать, какие номера иностранных журналов запрещены. И то дело!»[36] Противники строительства приводили вычитанные в западных газетах нелепые аргументы: куры перестанут нестись, воздух будет отравлен дымом, коровы не будут давать молоко…
К романтической партии относился В. Г. Белинский, мечтавший о как можно более скором сооружении железного пути: «Петербург и Москва – две стороны, или, лучше сказать, две односторонности, которые могут со временем образовать своим слиянием прекрасное и гармоническое целое, привив друг другу то, что в них есть лучшего. Время это близко: железная дорога деятельно делается…»[37] Ф. М. Достоевский вспоминал, что Белинского частенько можно было встретить в районе железнодорожного строительства: «Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце».
Земляные работы на первой протяженной магистрали страны велись практически вручную. Правда, в США приобрели четыре экскаватора, но вскоре продали их фабриканту Демидову. Скептики, впрочем, вскоре были посрамлены: первый поезд в 1851 году преодолел расстояние от Москвы до Петербурга за 21 час 45 минут. Уже в 1853 году время в пути сократилось до 12 часов. Появлялись совершенно фантастические проекты. «К Погодину приходили купцы и просили написать статью об устройстве железной дороги в Индию из Оренбурга до наших крепостей. После того, верно, уже устроят железную дорогу из Москвы в Оренбург, как бы это было хорошо, весь край бы обогатился. Погодин сперва было отговорился незнанием дела, но купцы привезли ему свои бумаги и упросили его составить статью», – сообщала В. С. Аксакова.
Сокрушительное поражение в Крымской войне заставило правительство изыскать средства для ускорения железнодорожного строительства. Первопрестольная оказалась в центре назревавшего бума. В 1857 году было создано Главное общество Российских железных дорог (ГОРЖД), которое занималось привлечением иностранных инвестиций. Общество собиралось проложить пути Москва – Курск и Москва – Нижний Новгород. Интересно, что о последнем мечтал еще А. С. Пушкин в конце 1836 года, о чем доверительно сообщал в послании В. Ф. Одоевскому: «Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург – и мое мнение – было бы: с нее и начать… Я, конечно, не против железных дорог; но я против того, чтоб этим занялось правительство. Некоторые возражения противу проекта неоспоримы. Например: о заносе снега… О высылке народа или о найме работников для сметания снега нечего и думать: это нелепость».
ГОРЖД всячески затягивало жизненно необходимый России процесс железнодорожного строительства. С 1857 по 1861 год построили всего лишь 755 верст пути. Раздувались штаты нового ведомства, одних только управленцев в его составе числилось около 800 человек. Директор общества Колиньон собирался отправиться на исследование будущего маршрута Москва – Феодосия, за счет акционеров купил себе поместье под Орлом, обустроил дом и садик… а в путь так и не пустился.
А. И. Чупров справедливо отмечал: «У нас нет ни одной железнодорожной компании, которая оставила бы по себе такую печальную память. Главное общество стоило России неисчислимых жертв». Хотя строительство железных дорог шло крайне медленными темпами, в 1861 году открыли движение от Москвы до Владимира, в 1862 году – от Первопрестольной до Нижнего Новгорода. К 1862 году проложили участок длиной в 65 верст до Сергиева Посада. Организатором будущей Ярославской дороги стал славянофил и ученый Федор Чижов, он скооперировался с инженером А. И. Дельвигом.
Чижов был недоволен участием иностранцев в железнодорожных концессиях: «Французы смотрели на Россию просто как на дикую страну, на русских, как на краснокожих индейцев, и эксплуатировали их бессовестно». За поездку до Сергиева Посада брали два рубля серебром в вагоне первого класса, на первых порах поезда отправлялись дважды в день.
В. А. Слепцов в очерке 1862 года так описывал вагон третьего класса: «Два часа пополудни. Свисток. Поезд двинулся. Все сидящие в вагоне слегка покачнулись – одни вперед, другие назад; некоторые перекрестились. Публика в вагоне обыкновенная: офицеры; купцы, дамы средней руки; помещики, дети, солдаты, мужики, четыре бабы, три межевых помощника, один сельский священник с молоденькой дочерью и один несколько пьяный кучер… У одного окна завязывается разговор вроде следующего: «Славная это выдумка – железная дорога. И скоро и дешево… в одни сутки…»[38] Деление вагонов на классы практически сводило на нет общение представителей разных социальных категорий, но иногда смешение случалось: «Оченно хорошо уставлен здесь такой порядок, что, когда сажают в вагон людей, сортировку соблюдают. Вот теперича здесь у нас-с, образованных, значит, людей, то есть, так сказать, сорт полированных-с, в одном конце посадили, а черный народ, примерно сказать, необразованных, как вон мужики, в другом краю».
Когда известный инженер П. П. Мельников был назначен главноуправляющим путями сообщения, ему удалось снизить поверстную стоимость дороги Москва – Курск до 60 тысяч рублей, хотя англичане предлагали 97 тысяч рублей за аналогичную работу, а стоимость некоторых «прожектов» ГОРЖД доходила до 90 тысяч рублей за версту. «Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас, сверх того, и для воровства», – говаривал блистательный сатирик Щедрин, служивший на рубеже 1850–1860 годов вице-губернатором в Твери и Рязани.
Если в первой половине 1860-х годов правительство пыталось убедить бизнес, что строительство железных дорог может быть выгодным предприятием, то начиная с 1867 года только и успевало выдавать разрешения на сооружение линий. С 1837 по 1868 год в стране построили 5116 км железнодорожных путей, а за следующее пятилетие почти в два раза больше – 9,6 тысяч км[39].
Предоставим слово А. С. Суворину: «О концессиях вздыхали как о манне небесной. Спит, спит в своей дыре какой-нибудь предприниматель, жаждущий не столько признательности своих граждан, сколько капиталов, и вдруг проснется со счастливой мыслью: «Ба!.. Дорога из Болванска в Дурановку имеет государственное значение. Тут – промышленность, и стратегия, и… черт знает еще что!»
Многие боялись прихода железной дороги, ведь неминуемым следствием стала бы ломка привычного уклада жизни. Выискивались и любители проектов по превращению захолустных городков в Нью-Васюки: «Я говорю: соедини только Осташков с Петербургом и Москвой, – ведь он на полдороге стоит, – вы понимаете, как бы это подняло город? Теперь одних богомольцев перебывает здесь до десяти тысяч; сколько же наедет, если провести дорогу? Потом вся промышленность этого края оживится; Осташков же будет служить ей центром»[40].
Железные дороги с их прямыми линиями несколько сгладили печальное состояние сухопутных шоссе. Поэт и критик Степан Шевырев оставил потомкам любопытное рассуждение о направлениях российских дорог: «Нет, инженерная цивилизация наша, проводя дороги по всем концам любезного отечества, не признаёт, по обыкновению своему, ни города губернского, ни уездного, ни села, ни деревни, она признает только болото, ров и гору. В этом прежде всего участвует ложная мысль, что она дорогами своими должна преобразовать старую или, правильнее, создать новую Россию… Но что же мы видим на деле? Многолетний опыт доказал, что новые дороги не создали не только ни одного нового города или села, но даже ни одной порядочной деревни. Нет и намека на такое создание. Выстраиваются только отдельные хутора, постоялые дворы, трактиры, а всего более кабаки, увеселяющие странников большой дороги… Вне всякого сомнения, что если бы инженерная цивилизация уважала исторические предания и не презирала наших городов, сёл и деревень, проводя дороги свои не для существующего теперь в них народонаселения, а для какого-то мнимого будущего, существующего в ее неистощимой фантазии, – менее встречала бы она болотных и горных препятствий, и дешевле обходились бы государству дороги, принося больше пользы»[41].
Постепенное раскрепощение умов тоже стало следствием александровских реформ. Кружки разночинной интеллигенции существовали и раньше. Так, на квартире фольклориста П. Н. Рыбникова уже в 1855 году собирались «вертепники», представители демократически настроенной молодежи, говорили об установлении республиканского строя, обсуждали социалистическую идею, спорили о будущем России.
Кружок стал своеобразным мостом между старым и новым этапом общественного движения – к Рыбникову частенько захаживали Аксаковы, Хомяков, они старались вытащить молодежь из трясины материализма. Общественное мнение николаевской эпохи формировалось в Английском клубе. «Конечно, и в то время существовали кружки и отдельные лица, не принимавшие на веру положений, провозглашенных старшими и чиновными, но они составляли исключение и считались даже опасными»[42].
Подувший ветер перемен совпал с отставкой генерал-губернатора Арсения Закревского, державшего город в ежовых рукавицах больше десяти лет, с 1848 по 1859 год. Крупный политик николаевского царствования не принял сердцем новых реформ. Во время коронации Александра II Закревский выгнал из Манежа купцов-распорядителей, занимавшихся подготовкой обеда для воинских частей. Получается, он не пустил хозяев на их собственный праздник! Для молодого императора поступок Закревского стал последней каплей: «После подобного поступка он не может оставаться на своем месте»[43].
Г. А. Джаншиев, в 1870-е годы трудившийся присяжным поверенным и судебным репортером, писал о первых признаках пробуждения: «С особенным энтузиазмом и торжеством отпраздновала опубликование рескриптов (правительственной программы по отмене крепостного права. – Прим. авт.) московская интеллигенция на первом в России политическом банкете 28 декабря 1857 года. Связанная по рукам и ногам печать времен «российского паши», как называли гр. Закревского, не смела и думать передать охватившее общество воодушевление, и единственным доступным способом для выражения волновавшего все передовое общество восторга оказался обед по подписке, устроенный в московском купеческом клубе. Вся московская интеллигенция без различия направления собралась за одним столом, чтобы приветствовать наступившее «новое время». Консерватор-византиец Погодин, либерал-конституционалист Катков, откупщик Кокорев, забывая свое разномыслие, собрались, чтобы чествовать того, кого в своем тосте впервые проф. Бабст назвал «царем-освободителем»[44]. Купцы, включая Кокорева, в основной массе сочувствовали начавшимся реформам вообще и крестьянскому освобождению в частности. Ситцевые короли Гучковы? Из крепостных! Табачный фабрикант Жуков? Из них, родимых. Дербеневы, Морозовы, Грачевы, Коноваловы, Бурылины… Один из исследователей отмечает, что крупные богачи в России выходили из «пасынков» отечественной жизни – социальных «пасынков», крепостных крестьян, и религиозных «пасынков», старообрядцев.
В очнувшейся Москве бурлила общественная жизнь и даже имели место уличные столкновения с полицией. 12 октября 1861 года на Тверской рядом с гостиницей «Дрезден» собрались протестующие студенты. Они просили нового генерал-губернатора П. А. Тучкова выслушать их и принять их жалобу на университетское начальство. Тучков решил не вмешиваться во внутренние дела учебного заведения. «Никакие увещевания не действовали на разгоряченную молодежь, подстрекаемую «Колоколом» и его агентами», – нервничает консервативно настроенный Д. И. Никифоров.
Демонстрация еще в самом начале была окружена полицией, к защитникам правопорядка присоединились сочувствующие дворники и торговцы из Охотного Ряда. Избиение безоружных студентов получило в народе название «Битвы под Дрезденом». В разгоне демонстрации участвовали конные жандармы, они «…на полном скаку нагоняли студентов, хватали их за шиворот или за волосы и, продолжая скакать, волочили их за собою»[45]. Победителями выступили полицмейстеры Н. И. Огарев и И. И. Сечинский. Впрочем, последнего проснувшийся и активно звонящий из Лондона «Колокол» еще в 1857 году назвал «начальником всех развратных заведений в Москве».
Спустя несколько десятилетий попечитель учебного округа стал требовать решительных мер во время очередных волнений в Московском университете. Генерал-губернатор В. А. Долгоруков, вспоминая шестидесятые годы, рассудительно произнес: «Ну, граф! Зачем так строго! Молоды! Со временем переменятся! Всегда такими были! Вот здесь, например, «под Дрезденом» когда-то какую драку устроили. Казалось бы, не негодяи?.. А ничего! Потом исправились! Многие из тех, которые тогда «под Дрезденом» дрались, – очень почтенные посты занимают! И никто их «негодяями» не считает…»
В числе арестованных в тот день оказался и Николай Ишутин, в 1863 году создавший собственный конспиративный кружок. Юные революционеры собирались в трактире «Крым» на Трубной площади, а чуть позже, в 1864 году, основали переплетную мастерскую. Когда ишутинская организация разрослась до 600 человек, из ее числа выделилась тайная группа «Ад». Участники новой структуры с гордостью называли себя смертниками, «мортусами». В апреле двоюродный брат Ишутина Дмитрий Каракозов устроил покушение на Александра II, и на след организации довольно оперативно вышли. Каждый день следователи допрашивали до ста жителей столицы.
Всеобщий интерес к нигилистам и страх перед людьми нового типа возникает после выхода тургеневского романа «Отцы и дети». Доходило до смешного: «Мне также пришлось видеть перепуганную пожилую добродушную чиновницу, заподозрившую своего старого мужа в нигилизме, на основании только того, что он на Пасхе не поехал делать поздравительные визиты знакомым, резонно говоря, что в его лета уже тяжело трепаться по визитам и попусту тратить деньги на извозчиков и на водку швейцарам»[46].
В годы польского восстания среди приверженцев власти получают популярность статьи М. Н. Каткова в газете «Московские ведомости». В передовицах 1863 года основоположник политической журналистики яростно боролся с крамолой: «К стыду нашему, иностранцы на этот раз не из ничего сочиняли свои взгляды на Россию: кроме обильного материала, доставлявшегося им польскими агитаторами, иностранцы могли черпать данные для своих заключений и в русских источниках. Никогда, нигде умственный разврат не доходил до такого безобразия, как в некоторых явлениях русского происхождения»[47]. В середине 1860-х набирает популярность роман Н. Г. Чернышевского. «Господи! Что за болтовня, что за тавтология!» – пишет в дневнике В. Ф. Одоевский и называет «Что делать?» «нелепым нигилистским молитвенником».
В. Г. Короленко подробно описывает свои студенческие годы: по рукам ходили издания вроде бакунинской «Анархии по Прудону», в окрестностях Петровской академии собирались нелегальные сходки. В районе старых дач обитали два жандарма, но у них не было возможности уследить за всеми домиками, поэтому сборища происходили довольно часто. Вольнолюбивые студенты пели «Дубинушку», и эхо разносило их молодые басы по всем отдаленным уголкам соснового бора…
Общественность ждала нового героя, но возвращались старые типы: в 1866 году П. А. Вяземский, заставший два предыдущих царствования, достает из чулана образ Хлестакова.
…ВнимаютЕго хвастливой болтовне,И в нем России величаютСпасителя внутри и вне.О Гоголь, Гоголь, где ты? СноваПримись за мастерскую кистьИ, обновляя Хлестакова,Скажи: да будет смех, и бысть!Смотри, что за балясы точит,Как разыгрался в нем задор;Теперь он не уезд морочит,А Всероссийский ревизор.В 1869 году в рядах студенчества возникла новая организация: 22-летний Сергей Нечаев сформировал «Народную расправу» и организовал убийство своего товарища Ивана Иванова. «Нечаев искал избранных. Твердил, полосуя глазами-щелками: «Иезуитчины нам до сих пор недоставало!» Говорил о дозволенности всех средств ради революции, о непрекословном подчинении Комитету, о смертной казни не только предателям, но и ослушникам. Ему робко возражали: дисциплинарность погубит братские чувства. Он отвечал, что боязнь «тирании» – участь дряблых натур. Капризничаете, господа, боитесь крепкой организации. Возникнет недоверие друг к другу? Здоровое недоверие – основа дружной работы. Хотите служить народу – служите. Нет – Комитет обойдется без вас»[48].
Революционер декларировал: «Мы считаем дело разрушения настолько серьезной и трудной задачей, что отдадим ему все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что хватит сил и умения на созидание. А потому мы берем на себя исключительно разрушение существующего общественного строя; созидать не наше дело, а других, за нами следующих».
Писатель Николай Успенский весьма жизненно изобразил волнение родителей за состояние умов своих подросших «дитяток»: «У Карпова есть и сын – студент Московского университета: рассчитывая на него как на опору своей старости и опасаясь, как бы молодой человек не сделался «якобинцем» в испорченной среде нынешней молодежи, Карпов почти в каждом письме к нему упоминал: «Если вздумаешь бросить науку, приезжай домой; у твоего отца хлеба хватит…»[49]
Университетский устав 1863 года вдохнул новую жизнь в высшие учебные заведения. Ректоры и профессора отныне избирались, университет получал автономию в решении многих вопросов. Четыре факультета Московского университета, физико-математический, историко-филологический, юридический и медицинский, могли похвастать наличием 1500 студентов, постоянно росло число разночинцев.
Далеко не все студенты обладали должным уровнем материального благосостояния. Экономист И. И. Янжул вспоминает те лишения, которым он подвергался в университетские годы: «Я мог издерживать… на пропитание не более 3 коп. в день, причем на две покупал в городе у разносчика 1 фунт печенки и на копейку черного хлеба… Иногда эта диэта разнообразилась похождениями в «Обжорный ряд», где я спрашивал, помнится мне, за две копейки порцию щей, а за копейку или две отдельно кусочек мяса… Разумеется, в такие тяжкие времена правильное регулярное питье чаю прекращалось, если только Бог не посылал добрых людей, которые предлагали по знакомству угостить меня чашкой этого нектара»[50].
Однажды будущему профессору пришлось истратить три драгоценных рубля на галоши. Они развалились через неделю, потому что были ловко сшиты мошенниками из маленьких кусков кожи. Голодно жилось в студенческие годы и писателю Глебу Успенскому: «Я занимался корректурой и получал 25 руб. сер. в месяц. Сначала еще было свободное время, то есть утром часа 3 можно было провести в университете, но потом, когда начали печататься адрес-календари, росписи кварталов, чайные ярлыки и лечебники, когда работы было невпроворот, тогда просто некогда было дохнуть. Мне оставалось одно – или бросить типографию и ходить в университет, или с голоду околеть: потому что брось я типографию – я лишаюсь 25 р., единственного источника существования, но зато – университет, куда, конечно, по причине голодного брюха ходить не будешь. Загадка была очень сложная»[51].
Одно дело – жить в Москве постоянно, другое дело – быть гостем столицы. Один из жителей Ярославля, приехавший в 1869 году на археологический съезд, нашел номер за рубль в сутки в гостинице Челышова в районе Театральной площади. Его рассуждения о столичной дороговизне действительно вызывают сочувствие – за свечу заплати отдельно 10 копеек, за постельное белье еще 15 копеек. «Захочется есть, чаю напиться, в Москве расстояния огромные и на улицах дождь, слякоть, без извозчиков не обойдешься. Выходит, в сутки мало двух рублей и надо припасать пожалуй все три».
Либеральные реформы коснулись и судебной системы. В 1866 году в Москве появился институт мировых судей, избиравшихся сроком на три года. Подобный служитель Фемиды был максимально близок к народным слоям, он рассматривал гражданские иски на сумму до 500 рублей, разбирался, кто кого обидел грубым словом, мог вникать в суть дел по устной жалобе, что позволяло защищать свои интересы в суде даже неграмотным. Судья всячески старался склонить стороны к примирению, сводил на нет бюрократические излишества, даже письменный протокол велся не всегда.
На заседания мог явиться поглазеть любой горожанин, что уже с первых дней сделало мировые суды конкурентами театров, балаганов и прочих зрелищных заведений. Популярность нового развлечения увеличивалась после ежедневных отчетов в газетах: репортеры, как правило, записывали и затем публиковали самые курьезные ситуации. М. Вострышев пишет, что только за первые 9 месяцев работы в мировые суды Москвы поступило 38 тысяч дел[52].
Зрителям нравилась простота и «жизненность» рассматриваемых ситуаций, мировые судьи становились героями баек и анекдотов. А. А. Лопухин обращался к подсудимым, даже к женщинам, по имени-отчеству, на что однажды обиделась крестьянская баба: «Я тебе не Дарья Ивановна, а мужняя жена!» Судья Багриновский решался на эксперименты. Два охотника не могли поделить купленную вскладчину собаку. Им было предложено выйти на улицу и звать пса в свою сторону. К кому прибежит довольно виляющий хвостом песик, тот и хозяин. Соломоново решение!
Д. И. Никифоров свидетельствует, что для сановников бессословность суда (утвержденная, по крайней мере, законом) давалась трудно: «Состав судей был разношерстный, но в большинстве случаев с сильной либеральной подкладкой. Вообще желание судей было как-нибудь оскорбить или унизить лицо, выше их поставленное в общественном положении… Современные судьи стали благоразумнее и не прибегают к крутым мерам прежнего времени и не мечтают, как прежние, об уравнении всех к одному знаменателю, а себя не ставят на недосягаемый пьедестал, как римские трибуны и цензоры. Вообще это было грустное время худо понятых прав, новосозданных юристов».
За пару лет до введения судебных учреждений Московское юридическое общество решило познакомить публику с новым порядком ведения дел. Из архива Сената вытащили несколько старых папок для инсценировки и чтения по ролям. В число избранных для «постановки» попал случай, произошедший в Симферополе: чиновника связали веревками и оставили на кровати, а его дом в это время хорошенько обчистили. В соучастии подозревали его собственную прислугу, некую Юлию Жадовскую.