
Полная версия
Властитель человеков
Наутро я беспощадно сообщил ему мой приговор. Он идиотски осклабился.
– И преотлично, – сказал он. – Сожги его, старина. Какая мне, собственно, разница? Сегодня мы завтракаем с ней у Клермона.
Счастье длилось примерно месяц. После чего Петтит явился ко мне в беспросветном отчаянии: он получил отставку. Нес какую-то чушь об отъезде в южноамериканские страны, о цианистом калии, о безвременно ранней могиле. Добрых полдня я приводил его в чувство. Потом напитал его целительной порцией алкоголя. Как я говорил уже, это история из жизни и, значит, не может быть выдержана в одних голубых тонах. Две недели подряд я держал его на Омаре Хайяме и виски. Кроме того, каждый вечер я читал ему вслух ту колонку в вечерней газете, где говорится о хитростях женской косметики. Рекомендую всем этот способ лечения.
Исцелившись, мой Петтит снова принялся за рассказы. Он вернул себе легкость слога, стал писать почти хорошо. Тут взвивается занавес, начинается третье действие.
Его полюбила без памяти миниатюрная, кареглазая, молчаливая девушка из Нью-Гэмпшира, приехавшая в Нью-Йорк изучать прикладные искусства. Как это случается с уроженками Новой Англии, под ледяной оболочкой она таила пылкую душу. Петтит не был чрезмерно влюблен, но проводил с ней свободное время. Она его обожала, порой докучала ему.
Дело дошло до кризиса, она чуть не выбросилась из окна, и Петтиту пришлось утешать ее ценой не очень-то искренней нежности. Даже меня смущала ее безоглядная привязанность. Родная семья, традиции, верования – все пошло прахом, когда заговорила любовь. Положение было тревожное.
Как-то к вечеру Петтит заявился ко мне, позевывая. Как и тогда, он сообщил, что у него в голове превосходный рассказ. Как и тогда, я не мешкая усадил его за письменный стол. Был час ночи, когда у меня под дверью зашуршала бумага.
Прочитав рассказ Петтита, я подскочил и, хоть в доме все спали, издал ликующий вопль. Петтит создал свой шедевр. Между строк этой рукописи истекало горячей кровью живое женское сердце. Тайну трудно было постигнуть, но искусство, святое искусство и пульс живой жизни слились здесь в рассказ о любви, который хватал вас за глотку не хуже ангины. Я кинулся к Петтиту, хлопал его по спине, заклинал именами бессмертных, на которых мы с ним молились. Петтит в ответ лишь зевал и твердил, что его клонит ко сну.
Назавтра я потащил его прямо к редактору. Познакомившись с рукописью, великий человек привстал с кресла и пожал Петтиту руку. Это было лавровым венком, представлением к почетному ордену, верным доходом.
И тогда старичина Петтит как-то нехотя улыбнулся. Петтит – истинный джентльмен, так зову я его с той поры. Не бог знает, конечно, какой комплимент, но на слух он вроде получше, чем на бумаге.
– Да, я понял, – сказал мой друг Петтит и, взяв свой рассказ, стал рвать его в мелкие клочья, – я понял теперь правила этой игры. Настоящий рассказ не напишешь чернилами. И кровью сердца тоже рассказ не напишешь. Его можно написать только кровью чужого сердца. Прежде чем стать художником, нужно стать подлецом. Нет, назад в Алабаму! В лавку, к отцу, за прилавок. Закурим, старик.
На вокзале, прощаясь с Петтитом, я попытался оспорить его позицию.
– А сонеты Шекспира? – взмолился я, делая последнюю ставку.
– Та же подлость, – ответил Петтит, – они дарят тебе любовь, а ты ею торгуешь. Не лучше ли торговать лемехами у отца за прилавком?
– Выходит, – сказал я, – что ты не считаешься с мировыми…
– До свидания, старик! – сказал Петтит.
– …авторитетами, – завершил я свое возражение. – Послушай, старик, если там, у отца, вам понадобится еще продавец или толковый бухгалтер, обещай, что напишешь, ладно?
День, который мы празднуем
– В тропиках, – сказал Бибб-Попрыгун, торговец заморскими птицами, – все перемешано: лето, зима, весна, каникулы, уикенды и прочее сбиты в одну колоду и перетасованы; сам черт вам не скажет, настал или нет Новый год, и еще полгода пройдет, пока разберешься.
Лавочка Бибба – в самом начале Четвертой авеню. Бибб был когда-то матросом и портовым бродягой, а теперь регулярно ездит в южные страны и привозит оттуда, на собственный страх и риск, словоохотливых какаду и попугаев-филологов. Бибб хромает, упрям, у него железные нервы. Я зашел в его лавочку, чтобы купить к Рождеству попугая для тети Джоанны.
– Вот этот, – сказал я, отмахиваясь от лекции Бибба на календарные темы, – красный, белый и синий. Откуда такая зверюга? Цвета его льстят моей патриотической спеси. К тому же я нечувствителен к цветовой дисгармонии.
– Какаду из Эквадора, – ответствовал Бибб. – Пока знает только два слова: «Счастливого Рождества!» – зато к самому праздничку. Отдаю за семь долларов. За те же два слова вам случалось платить и дороже, не правда ли?
И Бибб разразился внезапным громовым хохотом.
– Этот птенчик, – сказал он, – пробуждает у меня кое-что в памяти. В праздниках он, конечно, разбирается слабо. Уж лучше бы возглашал In Pluribus Unum по поводу собственной масти, чем выступал на ролях Санта-Клауса. А напомнил он мне, как у нас с Ливерпулем Сэмом как-то раз в Коста-Рике все в голове перепуталось из-за погоды и прочих тропических штучек.
Мы с Ливерпулем сидели в тех краях на мели – карманы пустые, призанять тоже было не у кого. Мы приехали, он кочегаром, я – помощником кока, на пароходе из Нового Орлеана, прибывшем за фруктами. Хотели попробовать здесь удачи, да пробовать не пришлось – дегустацию отменили. Занятий, отвечающих нашим склонностям, не нашлось, и мы перешли на диету из красного рома с закуской из местных фруктовых садов, когда нам случалось пожать, где не сеяли.
Городок Соледад стоял на наносной земле, без порта, без всякого будущего и без выхода из положения. Когда пароходов не было, городок сосал ром и дремал, открывая глаза лишь для погрузки бананов. Вроде того человека, который, проспав весь обед, продирает глаза, когда подают сладкое.
Мы с Ливерпулем опускались все ниже и ниже; и когда американский консул перестал с нами здороваться, мы поняли, что коснулись самого дна.
Квартировали мы у табачного цвета дамы по имени Чика, державшей распивочную и ресторанчик для более чистой публики на улице Сорока Семи Безутешных Святых. Наш кредит подходил к концу, и Ливерпуль, всегда готовый продать свой noblesse oblige[13] за набитое брюхо, решил повенчаться с хозяйкой. Этой ценой мы держались еще целый месяц на жарком из риса с бананами. Но когда как-то утром Чика, с мрачной решимостью ухватив свою глиняную жаровню – наследие палеолита, – задала Ливерпулю Сэму пятнадцатиминутную трепку, стало ясно без слов – эпоха гурманства кончилась.
В тот же день мы пошли и подписали контракт с доном Хаиме Мак Спинозой, метисом и обладателем банановой рощи. Подрядились трудиться в его заповеднике, в девяти милях от города. Другого выбора не было – нам оставалось питаться морской водой со случайными крохами сна и какой-нибудь жвачки.
Не стану хулить вам сейчас или чернить Ливерпуля Сэма, я говорил ему те же слова и тогда. Но я полагаю, что, если британец впадает в ничтожество, ему надо ловчее крутиться; иначе подонки других национальностей наплюют ему прямо в глаза. Если же этот британец вдобавок из Ливерпуля, можете не сомневаться, спуску ему не дадут. Я лично природный американец, и таково мое мнение. Что касается данного случая, мы были с Ливерпулем на равных. Оба в лохмотьях, без денег, без видов на лучшее, а нищие, как говорится, всегда заодно.
Работа у Мак Спинозы была такая: мы лезли на пальму, рубили гроздья плодов и грузили их на лошадок, после чего кто-нибудь из туземцев в пижаме с крокодиловым поясом и мачете в руке вез бананы на взморье. Случалось ли вам квартировать в банановой роще? Тишина, как в пивной в семь утра. И пойдешь, не знаешь, где выйдешь, словно попал за кулисы в музыкальный театр. Пальмы такие густые, что неба не видно. Под ногами гниющие листья, по колено проваливаешься. И – полнейший мир и покой: слышно, как лезут на свет молодые бананы на место старых, что мы с Ливерпулем срубили.
Ночи мы коротали в плетеной лачужке у самой лагуны, в компании служивших у дона Хаиме красно-желтых и черных коллег. Били москитов, слушали вопли мартышек и хрюканье аллигаторов, и так до рассвета, чуть-чуть забываясь сном.
Вскорости мы позабыли о том, что такое зима и что – лето. Да и где тут понять, если восемьдесят по Фаренгейту и в декабре, и в июне, и в пятницу, и после полуночи, и в день выборов президента, и в любой другой божий день. Иной раз дождь хлещет покруче, и в этом вся разница. Живет себе человек, не ведая бега времени, и в самую ту минуту, когда он решил наконец покончить с этой мурой и заняться продажей недвижимости – бац! – вдруг приходят за ним из Бюро похоронных процессий.
Не сумею вам точно сказать, сколько мы проторчали у дона Хаиме. Помню, что миновало два-три сезона дождей, раз семь или восемь мы подстригали отросшие бороды и напрочь сносили по три пары брезентовых брюк. Все деньги, что мы получали, уходили на ром и на курево, но харч был хозяйский, а это великое дело.
И все же ударил час, когда мы с Ливерпулем почувствовали, что с этой банановой хирургией пора кончать.
Так бывает со всеми белыми в Южной Америке. Вас вдруг схватывает словно бы судорога или внезапный припадок. Хочется, вынь да положь, побалакать по-своему, взглянуть на дымок парохода, прочитать объявление в старой газете о распродаже земельных участков или мужского платья.
Соледад манил нас теперь как чудо цивилизации, и под вечер мы сделали ручкой дону Хаиме и отрясли прах плантации с наших ног.
До Соледада было двенадцать миль, но мы с Ливерпулем промучились двое суток. Попробуй найди дорогу в банановой роще. Легче в нью-йоркском отеле через посыльного отыскать нужного вам человека по фамилии Смит.
Когда впереди, сквозь деревья, замелькали дома Соледада, я вдруг с новой силой почувствовал, как действует мне на нервы Ливерпуль Сэм. Я терпел его, видит бог, пока мы, двое белых людей, были затеряны в море желтых бананов. Но теперь, когда мне предстояло снова увидеть своих, обменяться, возможно, с каким-нибудь землячком парой-другой проклятий, я понял, что первый мой долг окоротить Ливерпуля. Ну и видок же был у него, доложу вам: борода ярко-рыжая, синий нос алкоголика и ноги в сандалиях, распухшие как у слона. Впрочем, возможно, и я был не худшим красавцем.
– Насколько разумнее было бы, – говорю я ему, – когда бы Великобритания держала бы под замком подобных лакателей рома и жалких подонков и не оскверняла бы их присутствием заморские страны. Мы уже раз задали вам знатную взбучку в Америке, но придется, я вижу, надеть калоши и снова набить вам морду.
– А поди ты туда и туда, – говорит Ливерпуль. Других аргументов я от него не слышал.
После плантации дона Хаиме Соледад показался нам совсем недурным городишкой. Мы с Ливерпулем бок о бок пустились знакомым путем, мимо отеля Grande и каталажки, через центральную plaza и дальше к домику Чики, где Ливерпуль, на правах законного мужа, мог раздобыть нам обоим что-нибудь пожевать.
Минуя двухэтажное деревянное здание Американского клуба, мы заметили, что балкон разукрашен цветами и гирляндами из вечнозеленых кустарников, а на флагштоке на крыше развевается флаг. На балконе дымили сигарами Стэнци, наш консул, и Аркрайт, владелец золотых рудников. Мы помахали им давно не мытыми лапами и выдали по ослепительной светской улыбке, но они повернули спину, словно нас и не видели. А не так ведь давно мы все вместе играли в покер, правда, до первого случая, когда Ливерпуль потянул из-за пазухи комплект запасных тузов.
По всему было видно, что праздник, но летний, осенний или, может, весенний – угадать мудрено.
Еще немного пройдя, мы увидели Пендергаста, священника, проживавшего в Соледаде, чтобы строить тут церковь. Преподобный стоял под кокосовой пальмой в черном куцем альпаковом пиджачке и с зеленым зонтом в руках.
– Ах, мальчики, мальчики, – сказал он, взирая на нас сквозь синие стекла очков. – Я вижу, дела совсем плохи. Неужели дошли до крайности?
– До самой последней крайности, – сказал я ему. – До мельчайших дробей.
– Сколь прискорбно, – сказал Пендергаст, – видеть своих земляков в таких обстоятельствах.
– Что ты мелешь? – сказал Ливерпуль. – Я отпрыск аристократической английской фамилии.
– Заткнись! – сказал я Ливерпулю. – Ты на территории иностранной державы.
– И в такой торжественный день, – продолжал Пендергаст, – в этот светлый великий день, когда мы торжествуем победу над злом и рождение христианской цивилизации.
– Мы приметили, – говорю, – преподобнейший, что город украшен цветами и флагами, но не сразу сумели смекнуть, что за день вы тут празднуете. Не листали давненько календаря, даже толком не знали, лето сейчас или осень.
– Вот вам по доллару, – говорит Пендергаст и достает две здоровенные серебряные чилийские монеты. – Ступайте, ребята, и проведите этот праздничный день как подобает.
Почтительно поблагодарив его, мы затопали дальше.
– Пожрем? – спросил я Ливерпуля.
– Ты спятил, – сказал Ливерпуль. – Кто на жратву тратит деньги?
– Хорошо, – сказал я, – раз ты так ставишь вопрос, выпьем по маленькой.
Зашли мы в кабак, взяли с ним кварту рома и сразу на взморье, под сень кокосовой пальмы, чтобы отметить там праздничек.
Поскольку я двое суток кормился лишь апельсинами, то ром возымел свое действие, и я сразу почувствовал, что терпеть не могу англичан.
– Вставай, Ливерпуль, – говорю, – вставай, жалкий выходец из конституционно-монархической деспотии.
Сейчас ты получишь еще один Банкер-Хилл. Пендергаст, благороднейший из людей, велел нам отметить праздник подобающим образом, и я сделаю все, чтобы его деньги не пропали впустую.
– А поди ты туда и туда, – сказал Ливерпуль.
И я навернул ему левой по правому глазу.
Ливерпуль был когда-то заправским бойцом, но алкоголь и дурная компания сделали из него тряпку. Через десять минут он лежал на песке и просил пардона.
– Поднимайся, – сказал я, лягая его под ребро, – поднимайся и следуй за мной.
Ливерпуль поплелся за мной, вытирая кровищу со лба и под носом. Я привел его прямо к дверям Пендергаста и попросил преподобного выйти на улицу.
– Взгляните, сэр, на него, – говорю, – вот останки того, кто считал себя гордым британцем. Вы нам дали два доллара и велели отметить праздник. Ура! Да здравствует звездно-полосатое знамя!
– Боже мой! – сказал Пендергаст, помахивая руками. – В такой день устроить побоище! В светлый день Рождества!
– В светлый день Рождества?! – сказал я. – К чертовой бабушке!! Разве сегодня не Четвертое июля?
– Счастливого Рождества! – закричал красно-бело-синий какаду.
– Уступлю за шесть долларов, – сказал Бибб-Попрыгун. – Птенец перепутал свои цвета и не разбирается в праздниках.
Я интервьюирую президента
(Вряд ли кто-нибудь успел забыть, что месяц тому назад удавалось купить круговой билет в Вашингтон и обратно со значительной скидкой. Чрезвычайная дешевизна этого билета подвигла нас обратиться к некоему остинскому гражданину, принимающему общественные интересы близко к сердцу, и занять у него двадцать долларов под залог нашего типографского станка, а также коровы и под поручительство нашего брата вкупе с небольшим векселем майора Хатчинсона на четыре тысячи долларов.
Мы приобрели круговой билет, две венские булочки и изрядный кусок сыра, каковые вручили одному из наших штатных репортеров с заданием съездить в Вашингтон и взять интервью у президента Кливленда, по возможности натянув нос всем прочим техасским газетам.
Наш репортер вернулся вчера утром по проселочной дороге. К обеим его ступням были аккуратно привязаны куски толстой, сложенной в несколько слоев мешковины.
Оказалось, что он потерял круговой билет в Вашингтоне и, разделив венские булочки, а также сыр, с искателями должностей, которые несолоно хлебавши возвращались к себе тем же путем, добрался до дому голодным, с волчьим аппетитом и в надежде на сытный обед.
И вот, правда с некоторым запозданием, мы печатаем его сообщение об интервью, взятом у президента Кливленда.)
Я – старший репортер «Роллинг стоун». Примерно месяц тому назад главный редактор вошел в комнату, где мы сидели, беседуя, и сказал:
– Да, кстати. Поезжайте в Вашингтон и возьмите интервью у президента Кливленда.
– Ладно, – сказал я. – Счастливо оставаться.
Через пять минут я уже сидел в сказочно пышном пульмановском вагоне и трясся на пружинном плюшевом сиденье.
Не стану рассказывать подробности моего путешествия. Мне предоставили карт-бланш и велено не стесняться в расходах, если у меня будет чем их оплатить. Ублаготворение моего организма было предусмотрено на самую широкую ногу. И Вена, и Германия прислали яства, достойные моего взыскательного вкуса.
В пути я всего лишь раз сменил вагон и рубашку и с достоинством отказался разменять два доллара какому-то незнакомцу.
Виды по дороге в Вашингтон разнообразны. Их можно созерцать в окно, а стоит отвернуться, как они же поражают и чаруют взор в окне напротив.
В поезде было очень много Рыцарей Пифии, и один пытался практиковать тайное орденское рукопожатие на ручке моей дорожной сумки, но у него ничего не вышло.
По приезде в Вашингтон, который я сразу узнал, будучи весьма начитан в биографии Джорджа, я покинул вагон столь поспешно, что забыл вручить представителю мистера Пульмана причитающийся ему гонорар.
Я без промедления направился к Капитолию.
Как-то раз во власти jeu d’esprit[14] я изготовил сферическую модель эмблемы нашей газеты – «катящийся камень, который не обрастает мхом». Я взял деревянный шар размером с небольшое пушечное ядро, покрасил его в темный цвет и приделал к нему перекрученный жгутик длиной дюйма в три как символ мха, которым он не обрастает. И я захватил его с собой в Вашингтон вместо визитной карточки, рассчитывая, что каждый с первого же взгляда уловит столь изящный намек на нашу газету.
Предварительно изучив план Капитолия, я двинулся прямо к личному кабинету мистера Кливленда.
В вестибюле я встретил служителя и с улыбкой протянул ему мою визитную карточку.
Волосы у того встали дыбом, он как олень помчался к двери, лег на пол и мгновенно скатился во двор по ступеням длинной лестницы.
– Ага! – сказал я себе. – Наш подписчик-неплательщик.
Затем я увидел личного секретаря президента. Он писал письмо о тарифах и заряжал утиной дробью охотничье ружье мистера Кливленда.
Едва я показал ему эмблему моей газеты, как он выпрыгнул в окно на стеклянную крышу оранжереи, чаровавшей взор редкостными цветами.
Это меня несколько удивило.
Я проверил, в порядке ли мой костюм. Шляпа не съехала на затылок, и вообще в моей внешности не было ничего, что могло бы внушить тревогу.
Я вошел в личный кабинет президента.
Он был один и беседовал с Томом Окилтри. Увидев мой шарик, мистер Окилтри с пронзительным визгом выскочил из кабинета.
Президент Кливленд медленно поднял на меня глаза.
Он тоже увидел мою визитную карточку и сказал сиплым голосом:
– Будьте любезны, подождите минутку.
Президент принялся рыться в карманах сюртука и вскоре извлек из них исписанный листок.
Положив листок на стол перед собой, он встал, простер одну руку над головой и сказал с глубоким чувством:
– Я умираю за свободу торговли, за отечество и… и… и… и за все такое прочее.
Тут он дернул за веревочку, и на столике в углу щелкнул фотоаппарат, запечатлев нас обоих.
– Не надо умирать в палате представителей, мистер президент, – посоветовал я. – Пройдите лучше в зал заседаний сената.
– Умолкни, убийца! – сказал он. – Пусть твоя бомба свершит свое смертоносное назначение.
– Я не прошу о назначении, – произнес я с достоинством. – Я представляю «Роллинг стоун», газету города Остин, штат Техас. Ее же представляет и эмблема, которую я держу в руке, но, по-видимому, не столь удачно.
Со вздохом облегчения президент опустился в кресло.
– А я думал, вы динамитчик, – сказал он. – Минутку… Техас? Техас?
Он направился к большой настенной карте Соединенных Штатов, ткнул указательным пальцем примерно в Айдахо, зигзагом повел палец все ниже и наконец нерешительно остановил его на Техасе.
– Ага, вот он! У меня столько дел, что иной раз я забываю самые простые вещи. Погодите-ка… Техас? А, да! Это тот штат, где Айда Уэлс и орава цветных линчевали какого-то социалиста по фамилии Хогг за то, что он безобразничал на молитвенном собрании. Так, значит, вы из Техаса. Я знавал одного человека из Техаса. Дэйв Калберсон – так, кажется, его звали. Ну как там Дэйв? И его семейство? А детишки у Дэйва есть?
– Его парнишка в Остине работает, – сказал я. – Возле Капитолия.
– А кто сейчас президент Техаса?
– Я не вполне…
– Ах, простите! Опять забыл. Мне казалось, я что-то слышал о том, что его вновь объявили самостоятельной республикой.
– А теперь, мистер Кливленд, – сказал я, – не ответите ли вы мне на кое-какие вопросы?
Глаза президента подернулись какой-то странной пленкой. Он выпрямился в кресле, как механическая кукла.
– Приступайте, – сказал он.
– Что вы думаете о политическом будущем нашей страны?
– Я хотел бы заявить, что политическая необходимость требует чрезвычайной безотлагательности, и хотя Соединенные Штаты в теории связаны нерасторжимо и в принципе делимы и не едины, измена и внутриполостные раздоры подорвали единокровие патриотизма и…
– Минуточку, мистер президент, – перебил я. – Будьте добры, смените валик, а? Если бы мне нужны были прописи, я бы мог получить их от «Америкен Ассошиэйтед Пресс». Носите ли вы теплое белье? Ваш любимый поэт, приправа, минерал, цветок, а также чем вы предполагаете заняться, когда останетесь без работы?
– Молодой человек! – строго произнес мистер Кливленд. – Вы себе много позволяете. Моя частная жизнь широкой публики не касается.
Я извинился, и к нему не замедлило вернуться хорошее настроение.
– В сенаторе Миллсе вы, техасцы, имеете замечательного представителя, – сказал он. – Честное слово, я не слышал более блестящих речей, чем его обращения к сенату с призывом отменить тариф на соль и повысить его на хлористый натрий.
– Том Окилтри тоже из нашего штата, – сказал я.
– Не может быть. Вы ошибаетесь, – ответил мистер Кливленд. – Ведь он сам как раз это и утверждает. Нет, мне следует все-таки съездить в Техас и поглядеть своими глазами, что это за штат и такого ли он цвета, каким его изображают на карте, или нет.
– Ну, мне пора, – сказал я.
– Когда вернетесь в Техас, – сказал президент, вставая, – обязательно пишите мне. Ваш визит пробудил во мне живейший интерес к вашему штату, – до сих пор, боюсь, я не уделял ему того внимания, которого он заслуживает. Благодаря вам в моей памяти воскресли всякие исторические и по-иному любопытные места – Аламо, где пал Дэйви Джонс, Голиад, Сэм Хьюстон, сдающийся Монтесуме, окаменелый бум, обнаруженный в окрестностях Остина, хлопок по пять центов и сиамская демократическая платформа, родившаяся в Далласе. Я бы с удовольствием посмотрел, чем обилен Абилин, и полюбовался на девушек Деверса. Рад был познакомиться с вами. Когда выйдете в вестибюль, сверните налево, а дальше идите все прямо и прямо.
Я отвесил низкий поклон, давая понять, что интервью окончено, и тотчас удалился. Очутившись снаружи, я без всяких затруднений покинул здание.
Затем я отправился на поиски такого заведения, где подают съестное, которое не значится в списке товаров, облагаемых пошлиной.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
О небо! (нем.)
2
Под открытым небом (исп.).
3
Здесь: послушай (фр.).
4
Французские ругательства.
5
Испанское и французское ругательства.
6
Французское ругательство.
7
Чего вы хотите? Есть ли у вас красивая лошадь моего брата или хорошенькая собачка вашего отца? (Пародируются фразы из учебника французского языка.)
8
Боже мой! (фр.)
9
Здесь: вот как! (фр.)







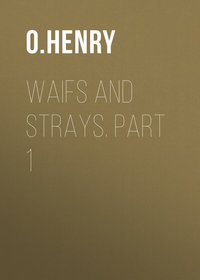
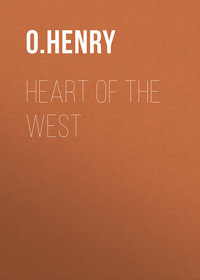
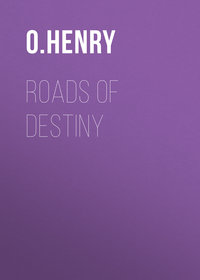
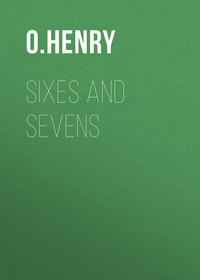
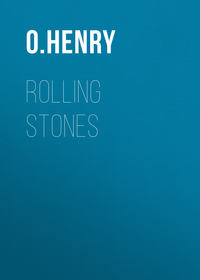
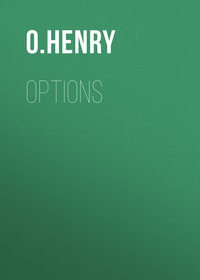

![Heart of the West [Annotated]](/covers_200/25561004.jpg)