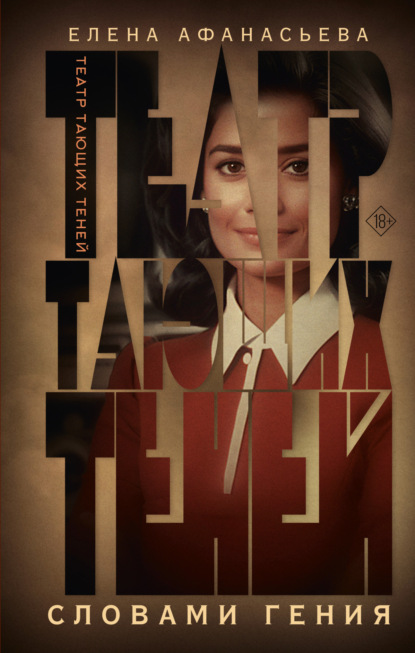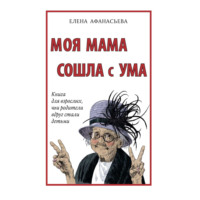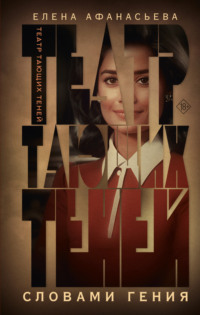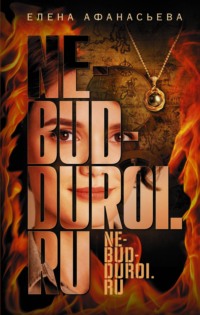Полная версия
Театр тающих теней. Под знаком волка
Снимает синее драповое пальто, протягивает Аморию, сам забирает меховой полушубок из рук Серого.
– Как две капли! – доволен чем-то блатной фраер. – Шапку, Аморий, гони по-скорому! Башка не простынет. Мы на ее очки художника напялим!
И снова ржет во весь голос.
Смысл переодевания накануне расстрела Савве не ясен. Обрывки фраз и шепоток Серого картину не проясняют.
– …Бульдожник в доле…
– … в Севастополь вывезеть за хорошую маржу…
– … Аморий что – бесполезняк! То ли дело ты, Художник!..
– …тольки у Амория зуба спереди не хватат. Примета приметная. Впотьмах перепутать могут, а что как в рот заглянут? Но это мы в один момент поправим. Рот разевай!
Командует блатной фраер уже Савве. И, не дожидаясь, пока опешивший Савва раскроет рот, своими грязными пальцами раздвигает Савве разбитую челюсть, отчего тот вскрикивает.
– Ша орать! Орать опосля бушь, кады верхом на кралю тебя пристроим. Ты хучь кралю ебал кады-нить? По одному виду видно – не ебал, сосунок. Да не стремайся ты! Жистя, она вся впереди. Ты везунок, Художник! И зуб выбивать тебе не надо. Аж три висят на честном фраерском слове. Все три из пасти твоей достал бы. Но у Амория одного только зуба нехватка.
Цепкими грязными пальцами хватает его за шатающийся зуб и дергает вверх.
– Подарок получить изволь, Художник! Тольки пасть заткни, кровяка каплеть. У Амория кровяки не было. А у тебя, Художник, рожа уже в крови была. Но и это мы поправим!
Поворачивается к так ничего и не понимающему Аморию. Прищурившись и прицелившись, резко бьет в скулу, с той же стороны, что и разбито лицо у Саввы.
– Адын патрет! Только цыц! Оба!
Всё, что происходит дальше, Савва видит, как в страшном сне.
Дверь в камеру открывается. Прапорщик с бульдожьей мордой вместе с другим, с которым он вез Савву в Балаклаву, выгоняют всех арестантов в коридор.
– Тольки опосля вас! – ернически расшаркивается Серый, отодвигая Савву к себе за спину.
Два прапорщика выталкивают заключенных. Молодых и старых. Оборванных и хорошо одетых. В тусклой полуподвальной камере почти не видно лиц, но Савва с одного взгляда запоминает каждого – старого рабочего в телогрее, молодого матроса в порванном бушлате, женщину средних лет с широкой седой прядью в иссиня-черных волосах, еще матроса, еще женщину интеллигентного вида, мужчину в пенсне…
И еще…
И еще…
И так каждого из шестидесяти четырех, Савва успевает посчитать и удивиться, как они помещались в этой небольшой опустевшей камере, где последними остались только они с блатным фраером. Амория в его синем пальто и разбитых очках прапорщик с бульдожьей мордой взашей толкает по коридору вперед. Потом, обернувшись, шепчет Серому:
– Сидеть тут и тихо! После дела вернусь.
И закрывает тяжелую дверь на железный засов.
Савва ничего не понимает.
– Что это значит?
– То и значит, что охранник в доле. Вывезти в Севастополю до малины обещался за хорошую мзду. А на воле ты, Художник, мне больше лавэ принесешь, чем Аморий, царствие ему небесное.
Савва, пошатываясь, идет к грязном оконцу, пробует как-то пристроиться, чтобы в быстро сгущающихся сумерках разглядеть, что происходит на пристани.
– Поглядеть, как стрелять в тебя будут, желашь? И то дело! Кто еще такой король, штоб смертушку свою со стороны повидать! Только Серый. Да ищо и ты, Художник. Как звать тебя-то?
– Савва, – бормочет юноша. – Савелий Инокентьев.
– Что ж, Савелий, гляди! Во все глаза гляди, как кончается жизня Инокентьева Савелия. Кады ищо такое доведетьси повидать.
На пристани арестантов строят в шеренги. Лицом к морю.
Первая шеренга у самой кромки причала.
Николай Константиниди дает отмашку:
– Пли!
И первых восемнадцать человек, среди которых два матроса и женщина с проседью в волосах, падают в море.
– Стройсь!
Прапорщики, которые выгоняли арестованных из камеры, теперь толкают вторую шеренгу уже увидевших, как погибли те, кто только что сидел на одном холодном полу камеры рядом с ними. Ноги их не слушаются. Два прапорщика то силком тащат, то толкают тех, кто не хочет идти. Аморий в синем Саввином пальто и в Саввиных очках среди них.
Командующий расстрелом Константиниди замечает низкую плотную фигуру в синем драповом пальто и в разбитых очках на носу.
– Этого я сам! – кричит пьяный Константиниди. – Сам! Чтобы все видели, что этого я сам! Налее-вуу, лицом к морю, стой! Ать-два!
Кричать!
Савве хочется кричать, чтобы расстрел немедленно остановили. Что вместо него другого человека вывели на казнь. Хочется кричать!
И он кричит. На всю камеру. Но из полуподвального каземата голос его на свистящем от ветра плацу не слышен. А блатной фраер Серый резко бьет его в другую скулу.
– Заткни пасть, Художник! Не то сам тебя голыми руками порешу!
Савве кажется, что всё происходит не наяву, а в дурной пошлой фильме, которую он смотрел прошлой осенью в Севастополе.
В грязном оконце с решетками он видит, как едва держащийся на ногах после полутора стаканов водки, выпитых при нем, и кто знает, сколько он еще после выпил, Николай Константиниди становится в ряд с солдатами…
…как взводит курок…
…как, прищуривая глаз, целится в повернутого лицом к морю Амория…
…как снова дает команду:
– Пли!
Как в момент команды еще до выстрела откуда-то с другого конца пристани бежит, почти летит Антипка.
– Нашел! – шепчет Савва. – Как тогда в Ялте нашел!
И зовет фраера:
– Серый! Серый! Нам волка с собой нужно забрать!
– Ну ты, Художник, даешь! Волка? С собой?!
Фраер Серый не успевает договорить.
…как звучит выстрел…
…как волчонок Антипка с разбегу клыками вонзается в правую руку Николая Константиниди…
…как кисть Николая разжимается, и он роняет револьвер на землю…
…как падает лицом в море честный фраер Аморий в Саввином синем драповом пальто…
…как вцепившийся мертвой хваткой Антип висит на правой кисти Николая, который не в силах сбросить со своей руки волка, и тогда левой рукой выхватывает кортик и вонзает его в тело волка…
…как Антипка ослабляет хватку и падает на пристань…
…как орущий от боли и ярости Николай подхватывает с земли револьвер и…
…несколько раз стреляет в Антипа…
В этот момент с грохотом отворяется дверь камеры и бульдожьего вида прапорщик торопит блатного фраера Серого:
– Быстро, быстро! Пока никто не заметил.
Серый плотнее натягивает шапку Амория с опущенными ушами на голову Саввы, чтобы прапорщик-бульдог не разобрал, кто перед ним, и толкает юношу к выходу.
– Швыдче! Швыдче! Тикать надо! Не то и нас в расход вслед за твоим волком пустют!
Они бегут длинным темным коридором и выходят в заднюю дверь, на другую сторону от пристани. Бульдожий прапорщик кивает в сторону повозки:
– Прокатят с ветерком!
Бульдог трясет пистолетом под носом Серого, кивая на возницу.
– Долю мою ему отдашь! И его долю отдашь!
В вознице Савва узнает Макара, того самого кучера графини Софьи Георгиевны, что в феврале восемнадцатого бросил в Севастополе больную Анну с больной Иринушкой на руках, а сам с лошадью и повозкой скрылся.
– Смотри мне, обмануть даже не думай! – трясет пистолетом Бульдог. – Из-под земли достану!
– Рассчитаемся тютелька в тютельку. Лёнька Серый – честный фраер!
Серый заталкивает Савву в ту самую повозку, которую украл сидящий впереди возница Макар, следом запрыгивает сам и громко свистит:
– Эх, пошла! Пошла-поехала!
Но свист его тонет в свисте ветра на балаклавской пристани.
– Антип! Антипка, может, жив?
– Какой тебе Антип?! Все мордой в море попадали. Сам же видал, – машет рукой Ленька Серый.
– Антип – это волк. Он на пристани. Переждать бы где-то и забрать его.
– В море твово волка скинули. Сам в окно видал, когда тебя к выходу толкал. Охвицер в море скинул. Как бишь тя звали говорил? Инокентьев Савелий? – хлопает Савву по снятому с Амория меховому полушубку. – Царствие небесное рабу божию Савелию, застреленному нонче на балаклавской пристани! До дому доедем, помянем. Нет более Инокентьева Савелия.
Хохочет, поворачивая к себе Савву, лицо которого мокрое от слез.
– Кеша ты тепереча, Художник. Кешка Саввин.
– Волков я теперь. Антип Волков.
– Да хучь Крокодилов. Докýменты сам себе нарисуешь, какие пожелаешь.
Случайное письмо,
найденное в дореволюционном издании «Подорожника» Анны Ахматовой
Вы любили когда-нибудь?
Вы любили когда-нибудь так, чтобы утром проснуться с ощущением невероятного, баснословного счастья, случившегося лишь от того, что приснившаяся Его смерть была только сном?!
Вы любили когда-нибудь так, чтобы, узнав, что Он вас бросил, бормотать: «Пусть бросил, пусть! «Бросил» это не безнадежно, не навсегда! Главное, жив! Ведь надежды нет только у смерти…»
Вы любили когда-нибудь так, чтобы, случайно услышав, как на улице посторонняя женщина окликает Его именем собственного сына, остановиться и затеять разговор в призрачной надежде лишний раз произнести это имя вслух, лаская каждый звук губами?!
Вы любили когда-нибудь так, чтобы захлебываться собственной любовью, хрустальным звучанием, колокольчиками радости выпуская из себя в мир этот колдующий перезвон «люблю… люблю… люблю… люблю… блю… блю… блю… лю…»?!
Вы любили когда-нибудь до дрожания коленок, не способных удерживать вас на ногах при одном Его появлении, до судорожных спазмов в горле при первых, звучащих в телефонной трубке звуках Его голоса, до полной обесточенности, выпотрошенности, выжатости, вывернутости при любом Его дольшем, чем то было оговорено, отсутствии?!
Вы любили когда-нибудь так, чтобы в самом переполненном зале, в самой невероятной толпе самых перенаселенных городов мира, еще не успев увидеть, успевать предугадывать, предчувствовать Его присутствие рядом? Сначала чувствовать – мир изменился, воздух вокруг стал другим, пространство раскалилось. Сначала чувствовать, и только потом, медленно повернув голову, убеждаться – так и есть, Он вошел. И удивляться, как этого не чувствуют другие – ведь у пространства, в котором есть Он, иная консистенция воздуха, иной полярный заряд, запах иной?!
Вы любили когда-нибудь до ощущения ада и рая, смешавшегося в вашем почти выжженном и до краев заполненном невероятной энергией существе?! До этой дикой смеси выси и бездны, падения и полета? До пересохших губ и спазмов в животе, до рвот, до тошнот, до ощущения собственной полной ничтожности, низменности и столь же абсолютного величия, равного которому ни в одной из захватнических войн, ни в одной из головокружительных карьер, ни в одной из суперприбыльных сделок, ни в одном из фанатических обожаний толп обожателей не постичь?!
Вы любили когда-нибудь так, как не любить нельзя, потому что просто невозможно так не любить?!
Вы любили когда-нибудь так?!
Я – в свои девятнадцать лет еще нет…
Спасен, но…
Савва
Севастополь. 1919 год. Октябрь
До малины доезжают в полной темноте. Честный фраер Серый говорит вознице, что пошел за деньгами, и уходит, оставив Савву с его дорогим полушубком в залог. Что, как сейчас метнется дворами и нет его? А возница Савву обратно на расстрел отвезет?
– Как, Макар, краденые повозка и лошадь, поперек горла не встали? – четко и громко произносит Савва.
Возница поворачивается, смотрит, не узнает в беззубом фраере с разбитой рожей, в тяжелом меховом полушубке, интеллигентного мальчика из барской усадьбы, из которой он украл повозку и лошадь.
– Брошенная на улице под обстрелом больная Анна Львовна с грудным ребенком по ночам в страшных снах не приходит?
Макар племянника хозяев не узнает, но душить кидается. Руки сильные. За горло схватил и давит. И давит.
«Пожалуй, некая предопределенность в жизни все-такие присутствует, – задыхаясь, меняет свои воззрения недавний агностик Савва. – Написан на роду день смерти, и ничего с ним не поделать – не застрелят, так задушат. Только Антипка зря под нож и под пулю попал».
Задыхается, хрипит, почти теряет сознание, когда слышит выстрел. И чувствует, что дышать становится легче – руки возницы разжимаются, отпускают его горло, но сам злодей и вор Макар всей своей тушей наваливается на него.
– Подымайся, Художник! И боженьку благодарствуй, тогда как Лёнька Серый вовремя поспел! И не деньгу с собой притаранил, а ствол! Деньгой гада того не пристрелить.
– Так вы платить не собирались? – догадывается Савва.
– Лёнька Серый – честный фраер! – гордо вскидывает голову дважды за сегодня спасший его блатной. – Но Ленька Серый не платит гадам! Куды ж теперяча эту тушу девать?
Тушу возницы Макара на той же телеге вывозят до ближайшего обрыва и сбрасывают в воду.
– Море, оно само резберёть, кто гад, а кто невинно убиенный, – выдает философскую мысль честный фраер Лёнька Серый.
Но у Саввы нет больше сил эту сентенцию обдумывать.
– Мне домой надо. Там волнуются.
– Домой?! Куды это домой? Ты теперича мой, Художник.
– Из дома рисовать для вас могу, – пробует уговорить блатного Савва.
– Идиёт ты, а не художник!
Серый сплевывает сквозь зубы.
– Идиёт!
Закуривает цыгарку, протягивает Савве. Тот, как глупый бычок, машет головой – не курю.
– Тебя за чё загребли?
– Загребли? – не понимает Савва, но, включив ассоциативное мышление, быстро догадывается. – А-а, арестовали! За работу на красных. Но я на них не работал… То есть работал, но не идейно, а за паёк… Чтоб родных кормить… – бормочет юноша, но Серый не дает ему договорить.
– Чисто дело – идиёт! – с удовольствием затягивается цигаркой Серый. – Работал ты на красных? На красных! Арестовали и пострелять тебя постановили деникинские? Деникинские! Власть за два часа переменилась? Не переменилась! Охвицер пьяный твоих родных знает? Сам говорил, знает!
Савва не помнит, когда это всё Серому рассказать успел. И почему он вдруг по дороге разговорился? Эйфория выжившего, психологический синдром, от чувства облегчения всё блатному фраеру и вывалил?
– Недели не проходит как в именьи под абажуром чаи гоняет и тётку твою охмуряет. Еще и в Европы везть ее намыливается… – продолжает Серый.
Савва не сразу соображает, что «тетка» – это про Анну, про тонкую хрупкую Анну Львовну. Но логикой понимает, что блатной фраер не так уж не прав – Анна жена его дяди Дмитрия Дмитриевича, родного брата его матери. Следовательно, приходится ему не родной, но тёткой.
– Протрезвеет твой капитан, что делать будет? К домой тебе поедет, перед тёткой твоей хвост распушать. А тебя живого там увидит, и чё?
Снова протягивает цигарку Савве. Ошарашенный подросток машинально берет цигарку у фраера, так же машинально затягивается и закашливается до слез.
– Хих! Чё за хлыщ попалси! Баб не ёб, цигарок не куривал! Уся жистя впереди у тя, Художник!
Савва думает, что, может, не так уж он не прав, этот фраер. Если дважды сегодня смерть прошла мимо, и дважды спас его Лёнька Серый, может, его устами и аргонизмами говорит сегодня с Саввой истина?
– Капитан твой тебя снова захватит, и тогда уж Лёньки Серого рядом не будет, спасать тебя, Художник, будет некому. А жизнь твоей тётке с племяшками капитан гадский поломает – за сокрытие врагов, подлежащих расстрелу. Заарестует твою тётку и сам в расход пустит, как тебя, думает, чё в расход пустил. Как волка твого пристрелил, так и тётку пристрелит. Попользует изначально для удовольствия и пристрелит.
Если истина сегодня говорит с Саввой устами блатного фраера, то стоит прислушаться. Савва хочет домой, к своим коллекциям бабочек, к своим рисункам, к девочкам, к Анне. Но блатной фраер прав. Он, Савва Инокентьев, опасен для девочек и для Анны. Его присутствие в имении будет не скрыть. С глаз Константиниди не исчезнуть.
Ему нельзя появляться в имении.
Всё, что он может сделать, это начать другую жизнь, которая ему сегодня подарена дважды. И, рисуя для блатного фраера документы и фальшивые деньги, подкидывать настоящие деньги и продукты в имение Анне.
Но как защитить ее от Николая Константиниди?
Конец как начало
Даля
Москва. Лет за десять ДО…
«…Вы любили когда-нибудь так?!
Я – в свои девятнадцать лет еще нет…»
Кто когда писал это письмо еще чернилами и тонким пером, которое она случайно нашла в старом томике еще дореволюционного издания «Подорожника» Ахматовой?
Теперь сама сидит и строчит в телефоне. Пока не закончится зарядка – кто знает, когда теперь можно будет к компьютеру попасть и текст в Живой Журнал выложить, но строчит.
«…Я – в свои девятнадцать лет еще нет.
Но, тем не менее, вышла замуж…»
От слова «замуж» аж передергивает. Но продолжает:
«…Вышла замуж. Тридцать два дня назад. За принца из сказки.
Вам никогда не доводилось выходить замуж за принца из сказки?
Нет?
Значит, вам несказанно повезло.
Ничего в том хорошего. Одно бряцание короны, слепящей глаза той, что отныне вынуждена стоять рядом, но чуть сбоку, чуть в тени. Стоять, изображая для толпы ту самую неземную любовь, которой, как выяснилось сегодня, в этой придуманной сказке места не нашлось.
Тридцать два дня назад я, изображая любовь, думала, что ничего не изображаю. И – наивная дура – не знала, что, втянутая в вечный спектакль жизни моего прекрасного принца, отныне по его законам играю, а не живу. Быть может, я и играть была бы не против, быть может – если бы случилась честная договоренность на берегу.
Тридцать два дня назад я стояла рядом с ним, смущенно позируя фотографам из глянцевого журнала, которому заранее были проданы права на эксклюзивную съемку бракосочетания кумира. Фотографы морщились – невеста подкачала, ни улыбнуться на камеру, ни позу выигрышную принять, да ладно, такой жених и за двоих отработает. При таком-то женихе и невеста не нужна. Не нужна невеста, как выяснилось сегодня.
Тридцать два дня назад я стояла ненужной невестой при идеальном женихе. Только женой за эти тридцать два дня не стала. И теперь уже не стану. Ведь для того, чтобы стать женой, как минимум нужен муж, а не доставшийся мне принц из сказки.
Э-эх, бабушки-прабабушки. Зачем вы только в детстве забиваете девочкам голову всякими бреднями про Золушкины туфельки и про алые паруса! И кто вам сказал, что надо вбивать в подсознание несчастных дурочек эту идиотскую надежду, что появится некто на белом коне, приедет, прилетит, приплывет и увезет ваше чадо в страну под названием “счастье”?
Такой страны нет.
А вы эту дурацкую мечту вбивали, вбивали и вбили – получайте результат!
Но большинству несчастных дур, которым мамины и бабушкины сказки подобные бредовые мечтания вбили, везет уже потому, что им не везет! Они даже не представляют себе, какое это везение, когда с “прекрасными принцами” у них никак. Не едут к ним принцы, не приплывают, и все! Не прилетают, хоть ты тресни! Но обманутые своими мечтами дуры даже не знают, насколько они в своей неудаче счастливы – у них хоть мечта остается. Иллюзия, что это только им, несчастным, так не повезло. Но где-то там, где небо синее, трава зеленее, и мужчины мужчинистее, живет их принц. Просто до них, бедненьких, он пока не доплыл. Компас и лоцию в дороге потерял. Или пропил.
У тех дур хоть иллюзия остается. И они не знают, насколько хуже, когда сказка сбывается. И в развеявшемся тумане с детства вдолбленной в голову мечты не остается ничего кроме ее полной противоположности.
Так что, если ваш прекрасный принц ходит по разным с вами улицам, считайте, вам крупно повезло. Иначе на тридцать второй день после “свадьбы из сказки” вы рискуете очнуться и понять, что вместо принца вам подсунули обыкновенного (зачеркнуто)…»
Пишет в телефоне. Сама не знает, зачем пишет и когда теперь сможет этот пост выложить.
Мысли окончательно спутались. А еще мобильный новым сообщением посвистывает:
«Третья самбука для такой маленькой девочки – не многовато ли?!»
Восьмое за сегодня сообщение от неизвестного абонента с ником«Joy».
Joy. Радость.Радость у него, извольте все вокруг радоваться. Никто из знакомых не знает, где она. Но этот «радостный» каким-то образом ее пасет.
«Слезами горю не поможешь… Может, я могу помочь?»
Первое сообщение пришло часа четыре назад, еще в троллейбусе. Потом на остановке – она подумала: кто-то номер перепутал. Теперь в «Китайском летчике». Еще и с подробностями про третью самбуку, которую она пьет. Это можно увидеть только здесь. Значит, этот «радостный» за ней следит?
Кто он?
Пугающий тип в черном, глаза которого разглядела на троллейбусной остановке? Жуткие глаза. И без них выть хочется, а еще и эти страшные глаза.
В ларьке какую-то гадость в банке купила, «Джин-тоник» называется, никогда такой не пила, но сегодня всё по принципу «чем хуже, тем лучше!». Вся жизнь по этому принципу. Но если с ней можно поступать так, как поступили, то хуже уже не будет.
Не успела около ларька отхлебнуть из банки, как пришло новое послание:«Не пей— козленочком станешь!»
Тот черный человек написал? Не блещет остроумием. И не отстает.
Почему не отстает? Слежка?! Ее прекрасным принцем нанятый сыскарь, призванный в первый же месяц счастливой супружеской жизни довести новоиспеченную принцессу до психического истощения?
Лучше бы этого месяца не было.
Лучше бы последних шести месяцев не было. Зачеркнуть их. Последние полгода зачеркнуть. Может, теперь не было бы так тошно.
Но тот черный, со страшными глазами не похож на типа с такими телефонными подкатами.
«Не кисни. Или самбука прокисла?!»
Еще одно сообщение, девятое. Или десятое. Со счета сбилась.
Ничего, если просто кто-то прикалывается. Или склеить ее хочет. Откуда ж ему знать, что она не клеится? Или клеится? После сегодняшнего дня уже ничего нельзя сказать наверняка. Ни кто она. Ни где она. Ни куда ей идти.
Она – Даля.
Ей девятнадцать. Она жена известного мужа. И ей некуда идти.
Если это просто пикапер, то ее номер у него откуда, чтобы сообщения присылать? Или ее номер муж дал и это реально слежка с целью устроить молодой жене маленький несчастный случай, но со смертельным исходом? Кто знает, отчего несколькими часами ранее старушка в троллейбусе замертво упала. Старушка рядом сидела, всё просила что-то в назначениях врача ей прочитать, сама разобрать не могла. Старенькая, вся скрюченная, но бодрая. А стоило ей самой встать и пойти к выходу, старушка на ее место около окна пересела и вдруг – брык.
Пассажиры столпились, водитель бормотал, что его с линии за такое отставание от графика снимут, но и быстро приехавшая «скорая» не помогла – констатировали смерть. Троллейбус всё это время стоял на остановке рядом с большими белыми витринами модной галереи. Из троллейбуса она вышла, но уйти никак не могла, и эти страшные глаза увидела.
Черный. На фоне белых витрин модной галереи.
Человек весь в черном. С черными глазами. Совсем черными глазами. Стоял рядом, пока «скорую» ждали, пока старушку забирали, пока она бурду в ларьке на остановке покупала…
Что, если правда, это ее убрать хотели, а она раньше времени встала с сиденья и смерть досталась несчастной старушке?
– Еще!
Пустой стакан отфутболила по барной стойке. Хорошо покатился.
Раньше после третьего коктейля можно было сразу бежать унитаз обнимать, а теперь сколько выглушила, стартовав с той редкой гадости из банки под названием «Джин-тоник», и ничего.
Заботливый бармен протягивает стакан со странным напитком, по виду похожим на молоко. Отхлебывает. Действительно молоко. Откуда в ночном клубе молоко?
День патологического перекоса. Вместо принца-мужа пластиковый Кен, вместо выпивки молоко, вместо жизни… А кто знает, что теперь вместо жизни? Тоска? И где теперь ей ночевать?
«И кто это за нас волнуется?»
Новое сообщение посреди непрерывной вибрации телефона от звонков законного Кена и его прихлебателей. На их звонки она не отвечает, но их номера известные, определяются. А этот «номер неизвестен», и всё.
Сегодня ровно тридцать два дня после ее свадьбы с принцем из сказки. И сегодня всё посыпалось как карточный домик.
Препод зарубил курсовую. Сказал, что и тройки не поставит и чтобы выбросила всю эту романтическую дурь из головы.
В курсовой она доказывала, что старые рисунки, которые после смерти бабушки она случайно нашла на антресолях в очень старой жестяной коробке от детской железной дороги, имеют общее с почерком самого Вулфа и могут быть атрибутированы как его ранние работы, написанными еще до эмиграции.