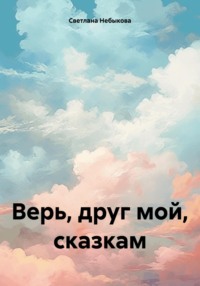Полная версия
По древнегреческому сценарию

Светлана Небыкова
По древнегреческому сценарию
Самый тяжкий грех человека – его
бессознательность.
Карл Густав Юнг
ГЛАВА 1
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ МИФ О МЕДЕЕМедея – волшебница, дочь владельца золотого руна. За золотым руном отправляется корабль аргонавтов.
Одного из них полюбила Медея и помогла ему похитить у ее отца золотое руно. Она берет в заложники собственного брата. Чтобы задержать погоню, ей приходится убить его. Медея покидает родину, поселяется в Коринфе, став женой Ясона, своего возлюбленного, для которого она пожертвовала всем, что было ей дорого. У них рождаются дети, двое сыновей. И тогда наступает испытание: Ясон полюбил юную дочь царя Креонта, расторг брак с Медеей и собирается жениться на юной красавице. Медея решается на злодеяние: она посылает сопернице дары – пропитанные ядом диадему и платье. Невеста Ясона примеряет их и погибает в страшных мучениях. Ясон приходит к Медее и в гневе упрекает ее за содеянное. Медея вызывает колесницу с волшебными конями, берет на колесницу сыновей, убивает их на глазах отца и улетает, не ответив на мольбы мужа отдать ему тела мальчиков, чтобы предать их обряду погребения.
В трагедии Еврипида действие сопровождается хором, который сочувствует ей, убеждает её отказаться от страшного замысла, оплакивает детей и ее судьбу.
Что здесь важно?
1. Жертвенность. Медея принесла в жертву свою связь с родиной, отношения с отцом, которого она предала, и брата, убитого ею.
2. Как следствие принесенных ею жертв – невозможность вернуться на родину. Другими словами, зависимость на чужбине от мужа. Из свободного человека она стала в каком-то смысле рабой.
3. Когда муж уходит к другой, обида на фоне принесенных жертв стремится к максимуму, становится непереносимой.
4. Что делает прижатое к стенке животное? То же, что и загнанный в угол человек: проявляет агрессию. Это и самозащита, и готовность погибнуть – ему уже все равно, раз гибель неизбежна. Лучше погибнуть в борьбе, нанеся урон противнику, чем позволить уничтожить себя, опустив руки и кротко глядя в лицо смерти.
5. В трагедии Медеи на первом месте – унижение. Сделав для мужа все возможное и невозможное, что она получила в результате? С ее точки зрения – предательство.
Бросим взгляд в будущее, как сделала это Медея: что же дальше? Позор изгнания? Воспитывать его сыновей? Знать, что он счастлив с другой? А что же она? Отброшенная за ненадобностью старая одежда?
6. Не забудем эмоциональное состояние Медеи: обида захлестывает ее, раздувает событие до невероятных размеров.
7. Убийство соперницы можно понять как борьбу за любимого, но когда он приходит к ней разъяренный, тогда остается только одно: месть. Уничтожить то, что он мог бы оставить после себя. Не оставить следа. Следовательно, убить его детей. В отчаянии, в обиде, в гневе она не помнит, что они – и ее дети.
8. Заглянем в будущее: поймет ли она, что натворила? Осознает ли Медея бездну, в которую себя столкнула? Скорее всего, она будет держаться за свою обиду, за свой праведный (с ее точки зрения) гнев.
9. Таким образом, у нее нет шансов осознать то, что произошло. Нет пути к осознанию – нет пути к обретению опыта, к раскаянию, к просветлению.
10. Поплачем же вместе с древнегреческим хором над судьбой бедной Медеи.
ГЛАВА 2
КООРДИНАТЫСаша Нестеров и я – земляки. Мы родились и выросли в поселке Нумги за северным полярным кругом. Этого поселка нет на обычных картах, но его легко найти.
Во-первых, на картах иногда есть кружочек с названием Ныда, а Ныда находится в четырех километрах от поселка Нумги. О Ныде иногда упоминают в СМИ – теперь это базовый поселок газовиков. Во-вторых, Нумги – как раз на пересечении пунктира, обозначающего северный полярный круг, и правой береговой линии Обской губы. Его омывают воды одноименной реки. Река по масштабам наших северных рек – так себе, мелочевка, с глубиной в центре фарватера с десяток метров и шириной возле поселка около ста метров. Может, и меньше, я не измеряла, но различить лицо человека, стоящего на том берегу, без бинокля не получится. От Обской губы – собственно, от открытого моря – Нумги отделяют всего-навсего полтора километра.
Мы с Сашей были почти ровесники, но знакомы не были. Это может показаться странным – малолюдный поселок, затерянный в снегах тундры, до ближайшего населенного пункта, если не считать Ныду, – сотни километров, и вдруг – не были знакомы! Между тем, и в маленьких поселках на краю земного шара кипят страсти.
Дело в том, что Нумги были разделены на две не очень дружественные части. Одну, большую, представлял совхоз. Вторая, намного меньшая, относилась к Зональной опытной оленеводческой станции. Директор совхоза попытался подмять под себя станцию, тем более что во время войны их функции почти совпали – главным делом и совхоза, и станции стали поставки оленины на фронт.
Если бы слияние совхоза и станции произошло, научно – исследовательская работа накрылась бы на сто процентов. Это, видимо, понимали в Институте полярного земледелия в Ленинграде, и происки директора совхоза Чупрова Владимира Трофимовича успехом не увенчались.
Задачи, стоявшие перед работниками станции, были очень сложными: увеличить поголовье оленей и соответственно повысить количество сдаваемого мяса, сохранив при этом элитную часть стада и продолжая научные исследования.
Таким образом, для станции и её директора все закончилось хорошо, но Чупров перевел военные действия на бытовой уровень: его подчиненные избегали общаться с маленьким коллективом станции. Я росла в совхозной части поселка, Саша – в станционной. Конечно, я слышала о Саше, сыне директора станции, мы с ним учились в одной и той же школе – других не было, но в разное время: он был моложе меня и пошел в первый класс, когда я училась уже в четвертом.
А кто из старших детей обращает внимание на малышню?
Так что познакомились мы с Сашей в Москве, когда я училась на четвертом курсе филологического факультета МГУ, а он поступил на первый курс того же факультета.
В нашем выборе, видимо, была повинна тундра. Она дарила нам свободное время: девять месяцев длилась зима. Настоящая зима, с морозами до пятидесяти градусов по Цельсию, с буранами, длящимися от трех дней до трех недель. В буран слышен только вой ветра и звон колокола. Колокол был установлен на трибуне в центре поселка. От трибуны к домам, где были мужчины, натянуты веревки, точнее, тонкие канаты. Мужчины прокапывали вдоль этих веревок глубокие траншеи и, держась за веревки, укутанные так, что с трудом шевелились, пробирались к колоколу и звонили, звонили, звонили круглые сутки. Через каждые два часа они сменяли друг друга. Звон этот – для тех, кто заблудился. Знали, что он бесполезен: ветер рвал и кружил звук, не давая понять направление. Знали, но звонили: а вдруг? Ну, хотя бы подать сигнал, что люди где-то близко.
Когда буран стихал, откапывались. Прокладывали траншею к реке, топорами рубили лед – делали прорубь для забора воды. От каждого дома траншеи вели к пекарне, бане, школе. По утрам по этим траншеям женщины шли за водой, за хлебом. Первоклассники превращались в невидимок – они катились по узким дорожкам, похожие на шарики – так их укутывали, и только самых высоких из них можно было отследить по плывущим над снегом капюшонам малиц – основной зимней одежды за полярным кругом.
Время бурана – это было время книг. Но не только: это было время для дум.
– Что ты делаешь? – спрашивала меня мама, когда я замирала в углу дивана.
– Я думаю.
Мой ответ смешил ее: о чем может думать пятилетний ребенок? Не надо ей было смеяться: я думала о многом. О жизни и смерти, потому что смерть всегда была рядом.
Погибла четырехлетняя Леля – пошла в гости к подружке, которая жила рядом с ними, через дом, и вдруг – буран. Он всегда приходил вдруг. Ее искали всем поселком, нашли, только когда буран кончился, у самого крыльца ее дома. Она стояла на четвереньках, закрыв лицо ладошками. В голову никому не пришло, что она вернулась к дому – до крыльца оставалось полметра. По ней ходили, когда искали ее.
Странная история произошла с Агашей, семнадцатилетней девочкой из зырянской семьи. У нее была очень требовательная мать, сварливая и с закидонами. Во время бурана ей захотелось речной воды:
– Не могу больше пить воду из снега! Сходи на речку!
Агаша пошла и не вернулась. Разматывая веревку, добрались до замерзшей проруби, но нашли там только ведра и коромысло. Девочку обнаружили после бурана на льду Обской губы. Видимо, она потеряла направление. Странность была в том, что рядом с прорубью лежал меховой чулок, снятый ею с ноги. Один. Второй был на ней. Занесли в баню, точнее,в предбанник. Оттаивая, она издала какой-то звук – наверно, вышел воздух из легких. По этому поводу пошли пересуды и фантазии – что не надо было заносить в помещение, вообще все сделали не так, что можно было спасти. Ее сестренка рассказала, что накануне Агаша мыла посуду, полюбовалась вазочкой из синего стекла и сказала:
– Когда мне исполнится восемнадцать, я поставлю эту вазочку в центре стола.
Помолчала и добавила:
– А если я умру, ты, Лина, поставь ее в центре стола на моих поминках.
Упал с нарт и замерз ветврач. Он ехал из поселка в стадо. Сидел спиной к каюру, заснул и упал. Наверно, кричал, но ненец его не слышал. В мороз надевали на себя так много, что не чувствовали друг друга, прижавшись друг к другу спинами, и не слышали вообще ничего через капюшоны малицы и гуся. Малицу шили из шкур молодых оленей мехом вовнутрь. Капюшон и рукавицы составляли с нею одно целое. Сверху надевался сатиновый балахон. Гусем называли одежду из шкур взрослых оленей мехом наружу, надевавшуюся на малицу. Капюшоны затягивались шнурками, оставляя снаружи только глаза и нос.
Упавший с нарт был обречен: его пропажу обнаруживали только по прибытии в стойбище.
Дойти до места назначения без ориентиров было невозможно – вокруг снег, до самого горизонта, со всех четырех сторон. Следы от нарт не оставались на плотном насте. Да и двигаться в такой одежде затруднительно, продержаться же на морозе, пока спохватятся и отыщут, почти невероятно.
Умер ненецкий мальчик. Он был болен туберкулёзом. Мы ходили смотреть на него. Он лежал в чуме на оленьей шкуре, исхудавший так, что его руки казались палочками. Был чудесный летний день, сияло солнце. Мальчик смотрел на нас большими карими глазами. Глаза были спокойны и мудры. Он знал, что умирает, и покорялся судьбе. Так же спокойны были и его родители. Их не удивляло и не задевало любопытство жителей: хотите – смотрите, что ж тут такого. Из-за болезни мальчика они не кочевали, застряли в поселке. Своих оленей продали, точнее, обменяли на вяленое мясо и сушеную рыбу.
Но больше всего смерти было в день забоя оленей. Их загоняли в пространство, огороженное забором. Загон был широким на входе и узким на выходе. Когда олени сбивались в плотную массу, вход запирали, а на выходе открывали калитку, хватали за рога ближайшего оленя, вытаскивали, бросали на землю так, что у него сгибались передние ноги, ударяли обухом топора по лбу, заваливали на бок, подтаскивали к врытой в землю бочке и перерезали горло. Когда кровь стекала в бочку, оленя разделывали – потрошили, сдирали шкуру, отрезали голову и ноги до коленных суставов, подвешивали тушу на крюк и сдвигали по проволоке в просторный сарай.
Мы смотрели, переживая за оленей, пока не превращались в сосульки. Тогда мы шли в сарай, смотрели на туши. Эмоции постепенно притуплялись, и фиолетовые от ужаса глаза оленей уже нас не трогали.
Жаль было только одного чудесного коричневого оленёнка. Его привезли на нартах ненцы в обмен на белого замухрышку: олени такого окраса были редкостью и считались приносящими счастье. Могли бы и похуже кого-нибудь привезти, но нет – отловили самого-самого, видно, боялись что за другого не отдадут белого заморыша. Белых оленей не забивали на мясо и не перегружали работой. У них была редкая доля – умереть своей смертью.
Была еще старая смерть, которую мы не брали в голову и по которой ходили за цветами, когда распускались огоньки. На Большой Земле их называют бубенчиками. В тундре они ярче и крупнее в два-три раза. Путь к ним лежал через старый хальмер. Хальмеры – ненецкие захоронения. Из-за вечной мерзлоты покойников клали в деревянные ящики без крышек и оставляли на поверхности. На старых хальмерах оставались только скелеты, черепа и волосы. Посуда, украшения – в основном стеклянные бусы – уже давно были собраны местными жителями. Скелеты не сохраняли форму – просто разбросанные кости и обломки костей. Ничего особенного. В нашем сознании они были частью пейзажа.
Можно было еще поразмышлять о полярных совах: они иногда пролетая очень близко, касались моего лица. Случалось это во время беспросветной зимней ночи, накрывавшей поселок на несколько месяцев.
Зачем они это делали? Что им было нужно? Я чем-то привлекала их? Им хотелось до меня дотронуться? Или они хотели меня испугать? Ответов у меня не было.
Так их касаний было два-три за все мое детство. Мягкое, очень нежное прикосновение пушинок к щеке. Со взрослыми такого не случалось, да и другие дети мне о таком не рассказывали.
Почему я думаю, что это были полярные совы? Но больше просто некому. И один раз, когда ночь еще не была совсем беспросветной, я уловила силуэт совы, почти невидимки – белой на фоне белого снега.
Еще я думала о тундре, о ее просторах, о ее терпении, бесконечном терпении карликовых берез, нежных цветов, упрямых травинок.
Думала о взрослых, о собаках и кошках. Кошки в посёлке странным образом не переводились, хотя собаки, в основном охотничьи и оленегонные, беспощадно с ними расправлялись. Только один наш котенок по кличке Серенький избежал этой печальной участи: ни одна собака не могла его догнать. Шкода он был тот еще. Он не ходил по дому – летал и прыгал. Опрокинув чернильницу – непроливашку, окунал в чернильную лужу лапы и взлетал к потолку по оконным белоснежным занавескам. Сшибал со стола чашки и стаканы. Его большие светло-зеленые глаза смотрели сразу во все стороны: что бы еще такое сотворить? Съев рыбину с себя ростом, он оставался таким же стройным, с подтянутым плоским животом. И тут же взлетал к потолку. Серый в полоску, он состоял из ушей, глаз и хвоста.
Мне нравилось за ним наблюдать. И нравилось думать о нем. И еще о том, что главное в нас – энергия. Вот бы такую энергию, как у Серенького! Можно ли ее натренировать? Или это дано так дано, а не дано – так не дано?
Еще я думала о комарах. Они отравляли нам лето. Мы ходили в накомарниках, но они забирались внутрь накомарников, изводя укусами и писком.
Откуда их столько? Если подставить им руку, рука станет мохнатой: на ней будет шевелиться сплошная серая масса.
Думала я о полярном сиянии. Это было волшебство – все небо переливалось нежными отсветами. Это невозможно описать – это надо видеть. Когда оно начиналось, поселок просыпался, люди будили друг друга и высыпали на улицу. Стояли, задрав головы, молча, забыв обо всем.
Что-то было важнее всего. Еды. Одежды. Книг. Что-то невероятное, запредельное. Внеземное.
Когда началась война, я уже умела читать и научилась слушать радио – до этого передачи по радио казались мне скучными.
Война была далеко, но добиралась и до нас. Призывали ненцев-охотников.
Из нашего поселка исчезли почти все мужчины – ушли на фронт. Стали приходить похоронки. Из Ленинграда к нам привезли семью финнов, двух стариков. То, что они рассказывали, было страшно.
Они были худы как два скелета. Говорить могли только о еде и о том, чем питались в блокадном Ленинграде.
Мы, дети, переживали гибель Зои Космодемьянской, Александра Матросова, молодогвардейцев. Страшные пытки мы чувствовали на себе, на своем теле. Я с трудом засыпала по вечерам – ужас того, что творилось в мире, надрывал сердце.
Вот в этом уголке между северным полярным кругом и Обской губой росли мы с Сашей, не соприкасаясь друг с другом.
Мы преодолели несколько десятков метров, разделявших нас в Нумгах, в Москве, встретившись в здании на Моховой. Впрочем, эта встреча не развилась в дружбу. Учеба на филологическом факультете МГУ, конечно, праздник, но праздник, напоминающий подводное царство: занырнул – и пропал для надводного мира. Несколько мертвых языков – древнерусский, старославянский, латинский, древнегреческий или санскрит. Несколько живых: хотя бы один западноевропейский и, по крайней мере, два современных славянских – восточнославянский и западно- или южнославянский, иначе не допустят к экзамену по сравнительному языкознанию. История древнерусской литературы, древнегреческой, древнеримской, западноевропейской – французской, английской, немецкой, история американской литературы, литературы народов СССР – украинской, белорусской, грузинской, армянской, таджикской, азербайджанской, казахской, узбекской, киргизкой, туркменской. До дружбы ли тут?
Но впечатление от первой встречи запомнилось.
Он был очень похож на своего отца, Нестерова Василия Петровича, директора станции. Его отца я помнила: он бывал в школе и, хотя школа была на территории совхоза, обеспечивал ее дровами на всю зиму, сам принимая участие в их заготовке. Кроме того, у нас сохранился снимок: четверо мужчин в обнимку на черно-белом фото. В центре – два директора, Чупров и Нестеров, первый маленький и пузатый, второй среднего роста, стройный. Слева, ссутулившись и присев, чтобы не слишком контрастировать с коротеньким Чупровым, – совхозный бухгалтер Николай Николаевич (фамилию не помню), справа – завхоз станции Семенов, добродушный и милый человек, мы его звали дядя Яша. Директора были очень контрастны. Чупров смотрел прямо перед собой мутноватыми глазами из-под кустистых бровей. Нижняя губа оттопырена. Мощный подбородок и внушительный живот, который он изо всех сил старался втянуть и от этого выглядел, как будто проглотил палку. Нестеров смотрел открыто, вьющиеся волосы спадали на лоб, улыбка трогала губы. Он вызывал симпатию и доверие. Вообще, по рассказам моей мамы, у него было сумасшедшее обаяние. Дисциплина на станции держалась на любви и уважении к директору, в совхозе – на страхе, зависимости и интригах. Могу предположить, что неприязнь Чупрова к Нестерову происходила от зависти к обаянию и популярности последнего. Оба директора были грешниками по части женского пола, но грехи у них были разные. Чупров имел содержанок, которых оплачивал из совхозной казны, подбрасывая им премии и другие выплаты, ну и плюс подарки и гостинцы детям из своего кармана. Его детей ни с кем нельзя было перепутать – те же глаза, те же подбородки, такие же коротышки и тот же командирский характер.
Жену Чупров держал в строгости. Она была из «бывших», аристократичная, презирающая и население поселка, и мужа, и детей содержанок. У нее детей не было. Она вела хозяйство, управляя прислугой, вышивала цветы, котят и портреты поэтов, читала романы на французском и не давала повода к пересудам о ее отношениях с супругом – она была выше всей этой грязи, и грязь не прилипала к ней.
Нестеров любил свою жену, не заводил ни постоянных любовниц, ни гарема, просто не всегда мог устоять перед влюблявшимися в него женщинами. В его сердце вспыхивало ответное чувство, и тогда все летело в тартарары – он влюблялся по-мальчишески беззаветно, все прошлое было ошибкой, и вот наконец…
Но порыв проходил, дома – очередной скандал, на грани развода, потом недели ледяного молчания жены, униженных просьб простить, клятв, что это не повторится, разумеется, до следующей встречи с самой лучшей женщиной в мире…
Вот всё, связанное с Сашей, что я могла вспомнить из своего детства и из рассказов моей мамы.
Настоящая встреча состоялась, когда я уже окончила университет, он же учился на третьем курсе.
Он показался мне совсем другим, чем при первой встрече, когда он разыскал меня на факультете, обратив внимание на мою фамилию: она показалась ему знакомой. Тогда он был очень похож на своего отца: вьющиеся волосы, спадавшие на лоб, серые сияющие глаза, открытая улыбка. Теперь же передо мною был измученный надломленный человек. Он выглядел старше своих лет. В глазах застыла боль. Мы проговорили с ним несколько часов. Он, действительно, был надломлен и близок к отчаянию. По его вине погибла девушка. Наложила на себя руки. Жить с этим он не мог и довольно скоро после нашей встречи ушел из жизни. Нет, он не покончил с собой – онкология. Мне передали в больнице папку, в которой была коротенькая записка с просьбой простить его за то, что он меня мучает своими бедами, и с пожеланием, познакомившись с его бумагами, опубликовать то, что сочту целесообразным, или включить это в какие-нибудь свои книги – он уверен, что у меня есть дар, что обо мне им говорила учительница, ставя меня им в пример и читая им мои сочинения. Что там могло быть в моих сочинениях в четвертом классе – не знаю. Может, что-то и было.
Я выполняю его просьбу и предлагаю вашему вниманию его исповедь, по его записям и по памяти о той нашей многочасовой беседе, когда он был уже болен и знал это, но не сказал мне ни слова о своей страшной болезни.
В своей записке, вложенной в папку, он просил не горевать о нем: так лучше, чем покончить с собой, как сделала это Женя.
ГЛАВА 3
ОДИНОЧЕСТВОШвейная машинкаОдиночества в моем детстве было очень много. Отец был занят работой. Кроме работы, у него было много увлечений: друзья, охота, рыбалка, подруги. Дома у него был кабинет, в который никто не был вхож, когда он работал. Он писал статьи по оленеводству, составлял отчеты, записывал сказки, легенды, мифы и реальные истории, рассказанные ему ненцами или зырянами. Сочинял рассказы и повести.
Иногда он читал свои рассказы маме, но ей они не нравились.
Мама была постоянно занята работой и домашними делами. К вечеру она уставала так, что едва держалась на ногах. В доме было две печки, одна на кухне, другая между комнатами – в одной комнате топка, в другой – задняя стенка печки. Их приходилось топить целыми днями, подбрасывая дрова.
Вода была на речке. Во время буранов растапливали снег. Его брали слева от двери, между дверью и стеной дома. Направо выливались помои, в том числе мой горшок и ведро, которым пользовались взрослые.
Особенно большие дозы одиночества я получал в четыре-пять лет. Читать я не умел: тогда бытовала теория, что ребенок, научившийся читать и писать до школы, не сможет хорошо учиться, потому что ему будет скучно на уроках. Поэтому я ходил хвостом за мамой, выпрашивая, чтобы она мне почитала вслух. Она обещала, но почти никогда не успевала.
Весной, летом и осенью было легче: мы с друзьями ходили на речку, смотрели на мальков, ели ягоды, когда они были еще зеленые – у всех нас был авитаминоз. Однажды мы нашли очень мелкий ручей, впадавший в Нумги. Вода в нем в солнечные дни прогревалась до дна, и мы в нем купались. Точнее, плескались, лежа на животах на мелких камешках. А один раз, пройдя далеко вдоль реки, наткнулись на обрыв. Со стороны реки он был полосатый, так как состоял из разных пород. Он высоко поднимался над узкой полоской песка, отделявшей его от воды, и произвел на нас странное впечатление. Мы как будто прикоснулись к далеким-далеким временам, к другому миру. Мы долго стояли молча, потрясенные ощущением бесконечности времени и краткости бытия. Конечно, мы не могли это все сформулировать тогда, это были не мысли, а только потрясение наших чувств. Пройдя еще чуть дальше, мы увидели в обрыве топор. Мы вынули его из породы. Он был абсолютно рыжий от ржавчины. Древка, конечно, не было. Потом засунули его обратно.
И в этом топоре тоже было что-то почти потустороннее, пугающее и волнующее.
А зимой я был одинок. Мама уходила на работу, и я оставался один, потому что мама запирала меня снаружи на замок. Я слонялся по комнатам, смотрел в заледенелые окна, думал. Потом придумал игру. Это была игра в поезд. Я видел поезда на картинках, поезда мелькали иногда в тех книжках, которые мама читала мне вслух.
Поезд состоял из стульев. На первый стул я ставил швейную машинку. На следующих рассаживал свои игрушки: мишку, зайчика, солдатиков. Машинка была паровозом, стулья за нею изображали вагоны. Я говорил за машиниста, кондуктора, пассажиров. Мне не хватало слов и знаний для такой сложной ситуации, приходилось напрягать память и воображение. Уставал я страшно, и когда мама прибегала в обед, чтобы покормить меня и подбросить дров в печку, я встречал ее равнодушно, хотя и с облегчением: можно было отдохнуть от игры.
Это продолжалось до одного события, когда в воскресенье я вдруг исчез. Кинулись меня искать. Жители поселка сказали, что видели меня, идущим по направлению к хальмеру. Меня нашли уже за хальмером. Я шел, низко опустив голову и что-то бормоча под нос. Обрадованные родители расхохотались – мама говорила мне потом, что я был похож на маленького старика, выжившего из ума.